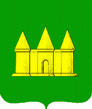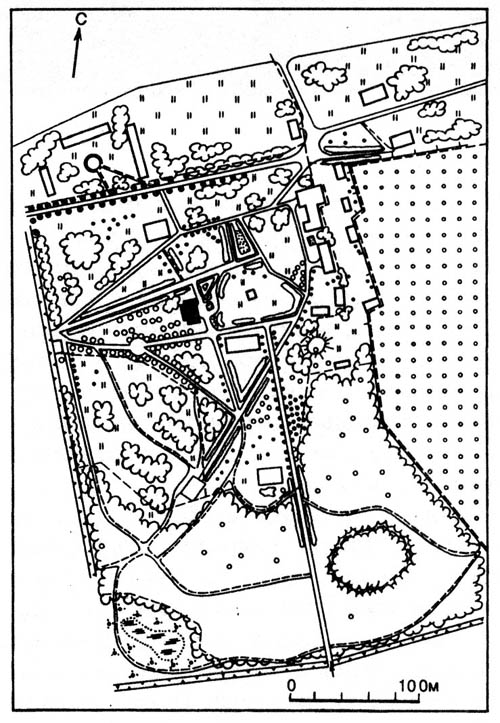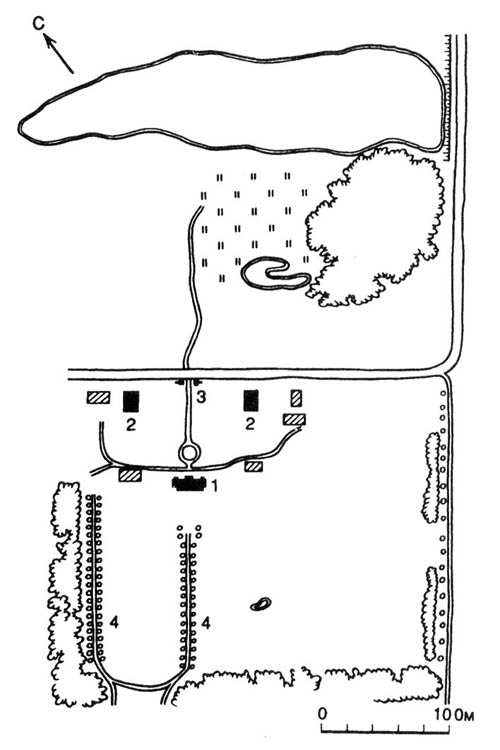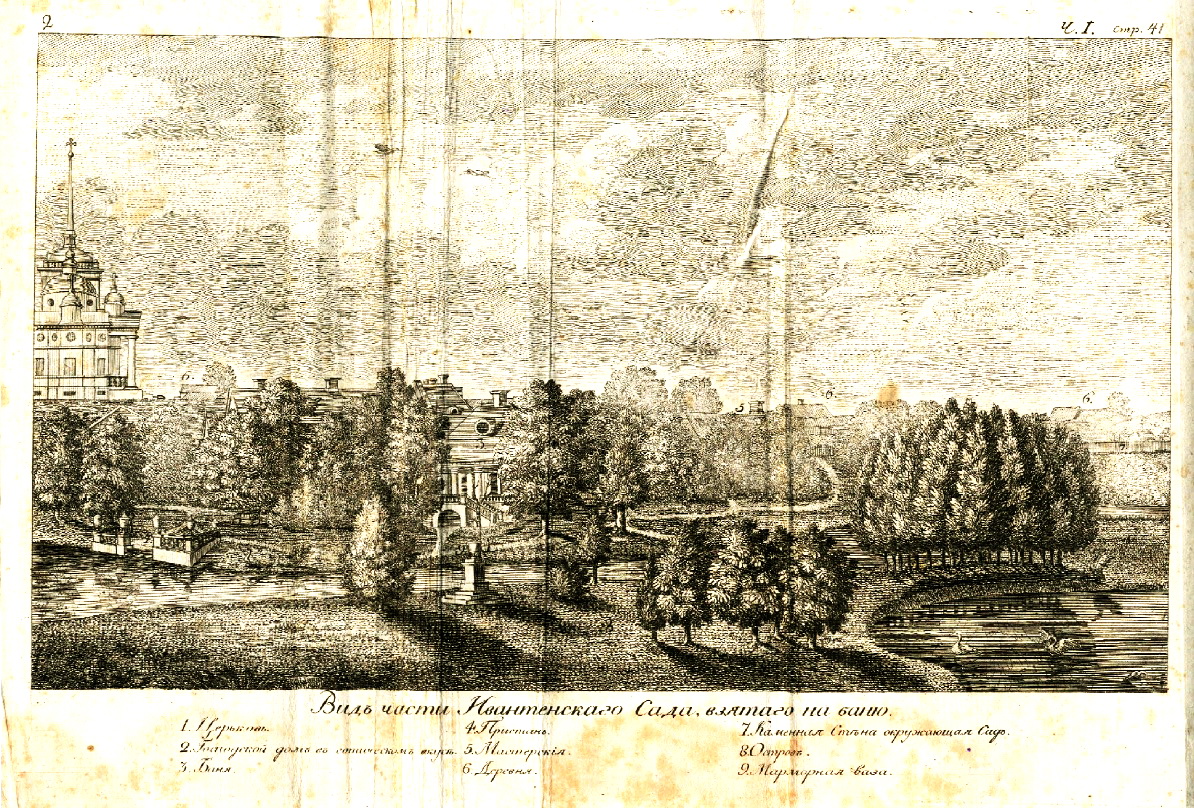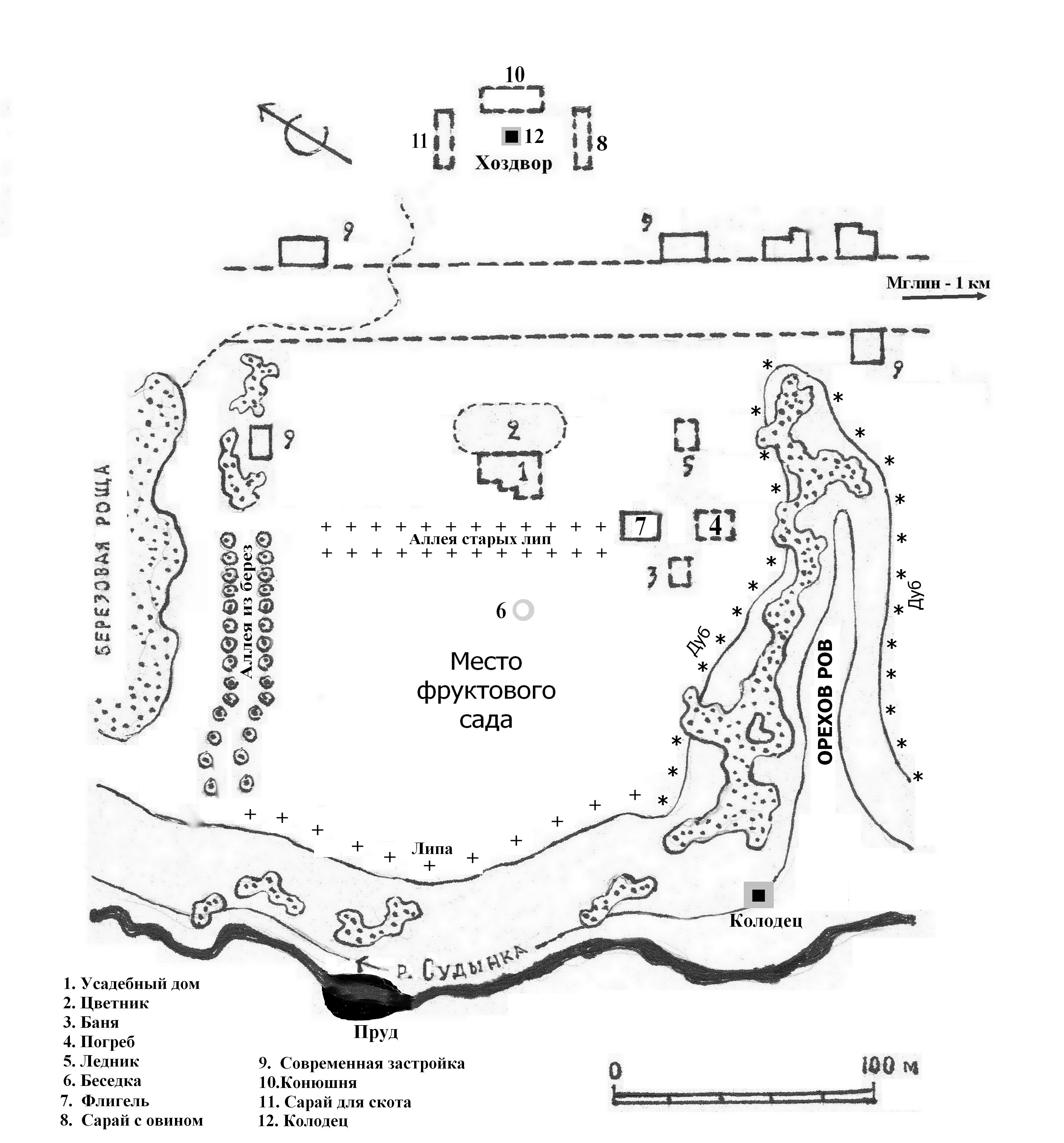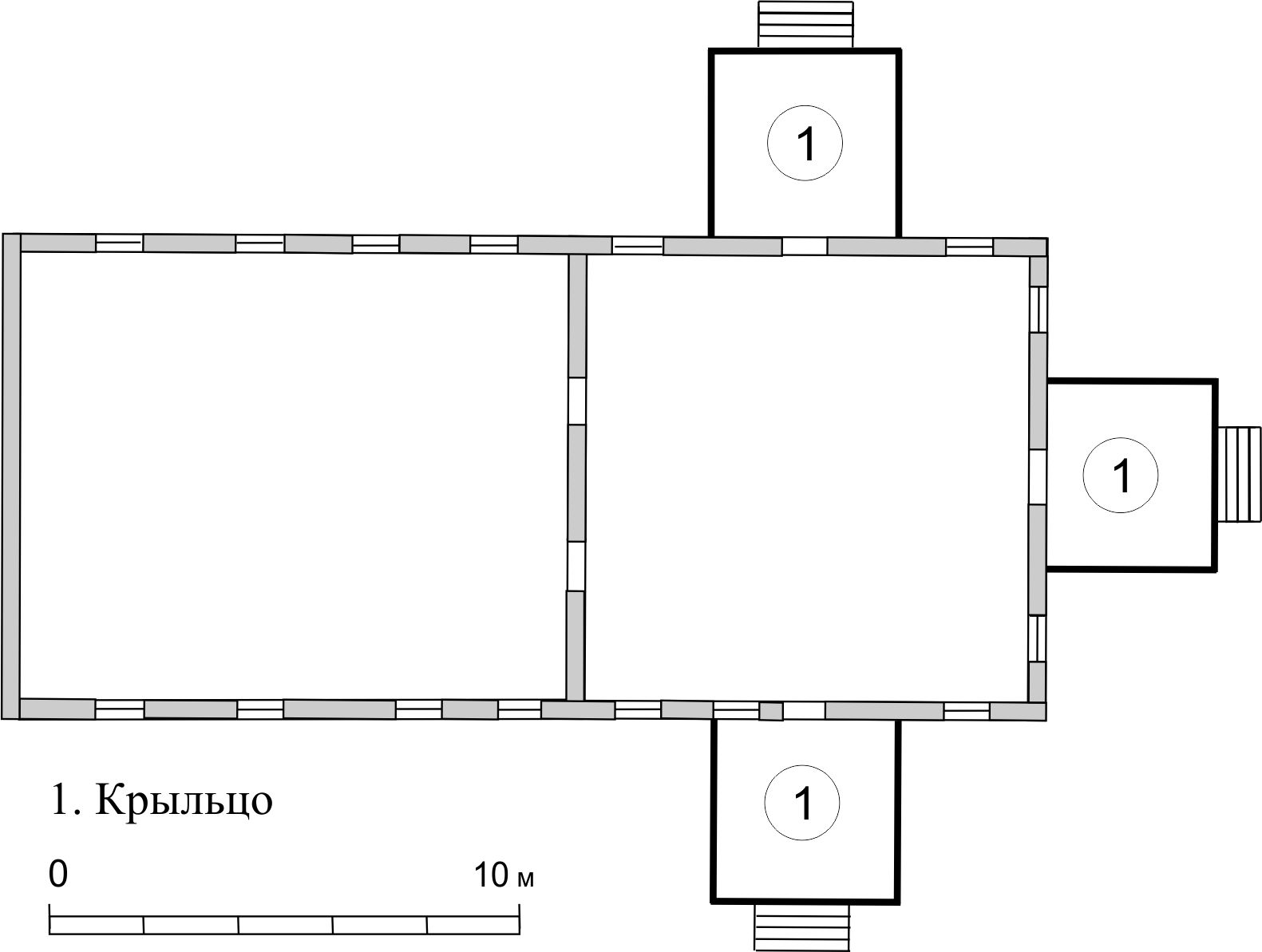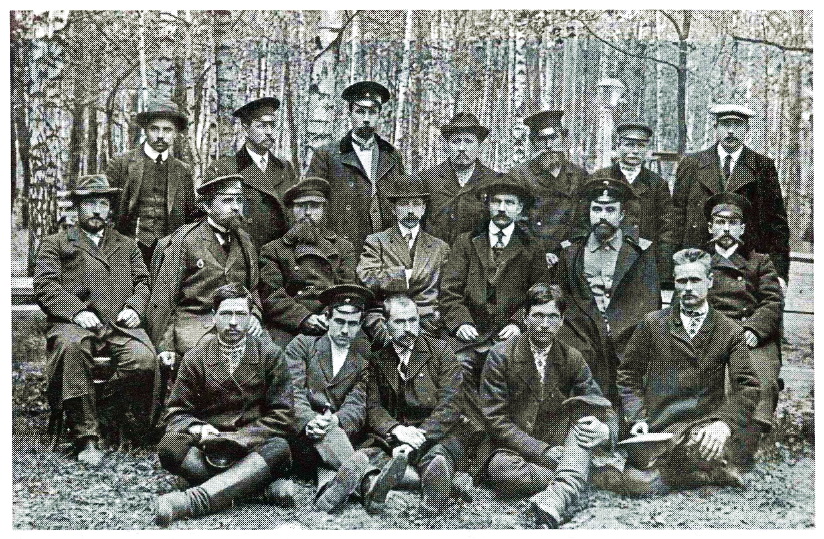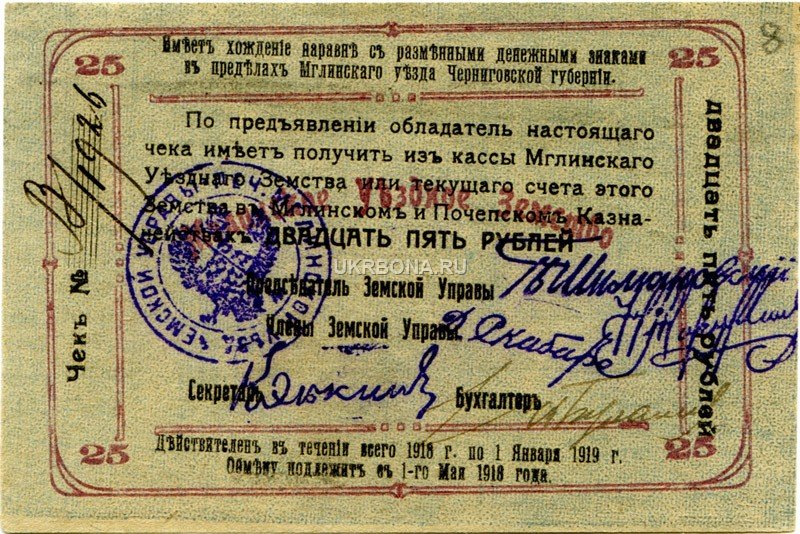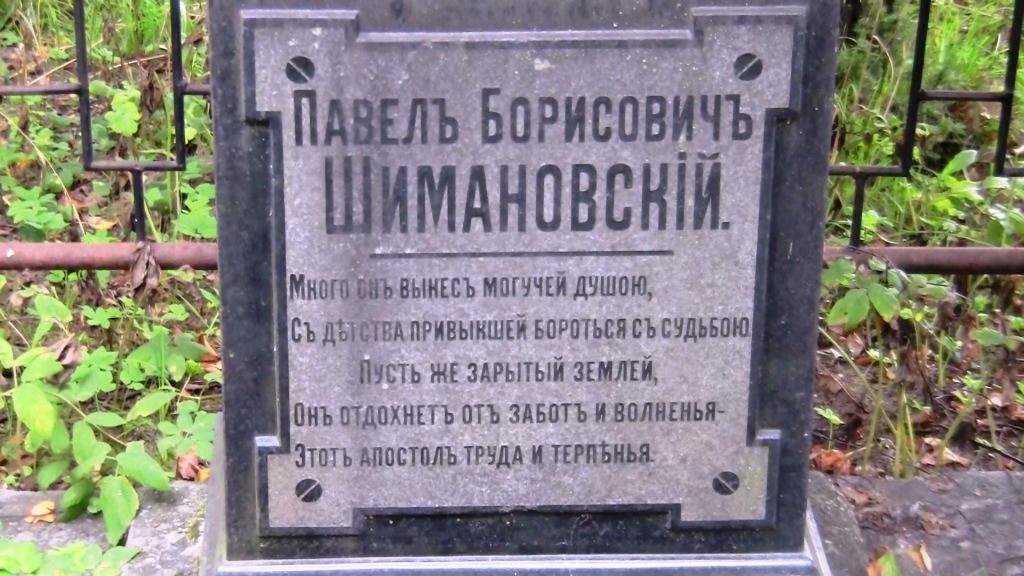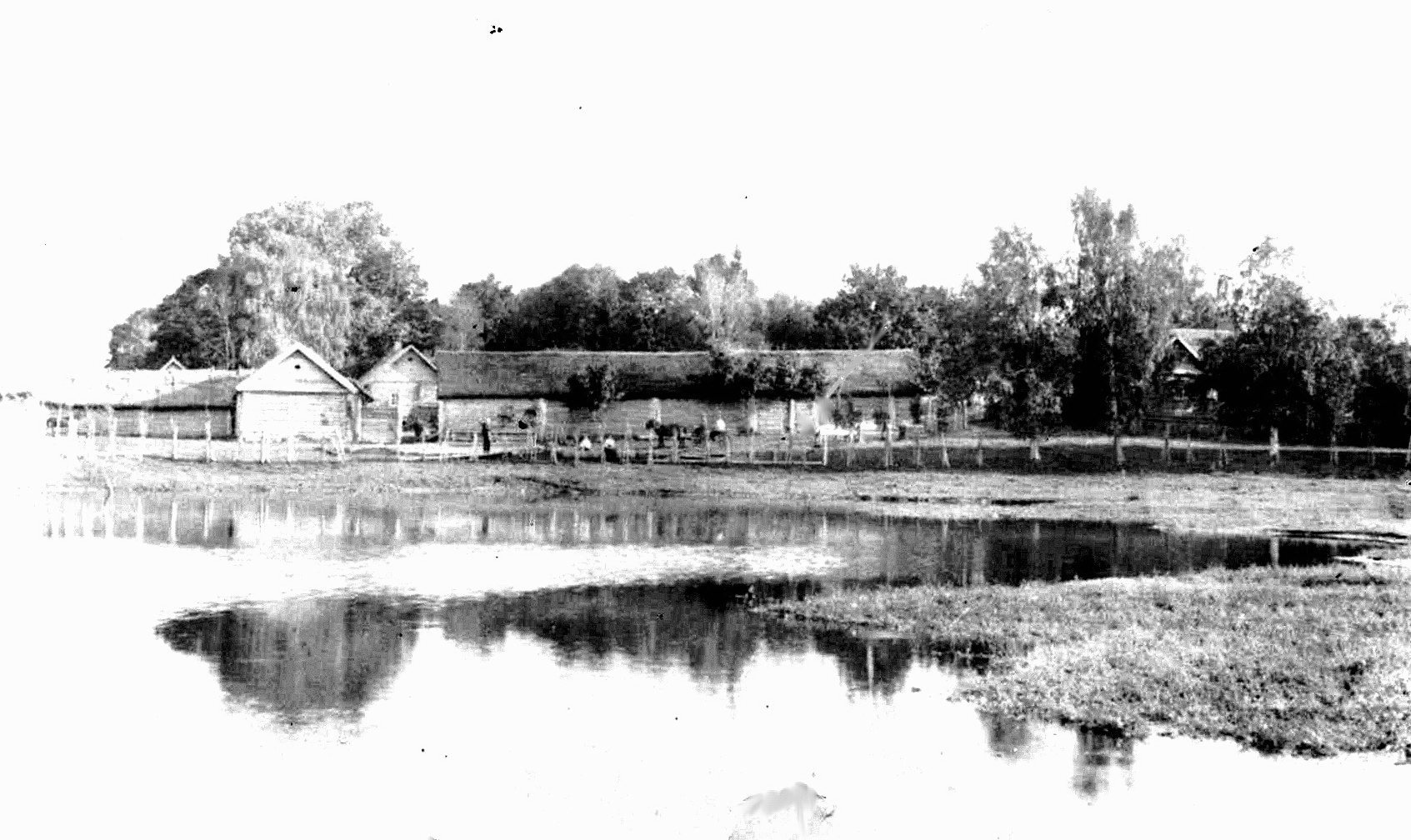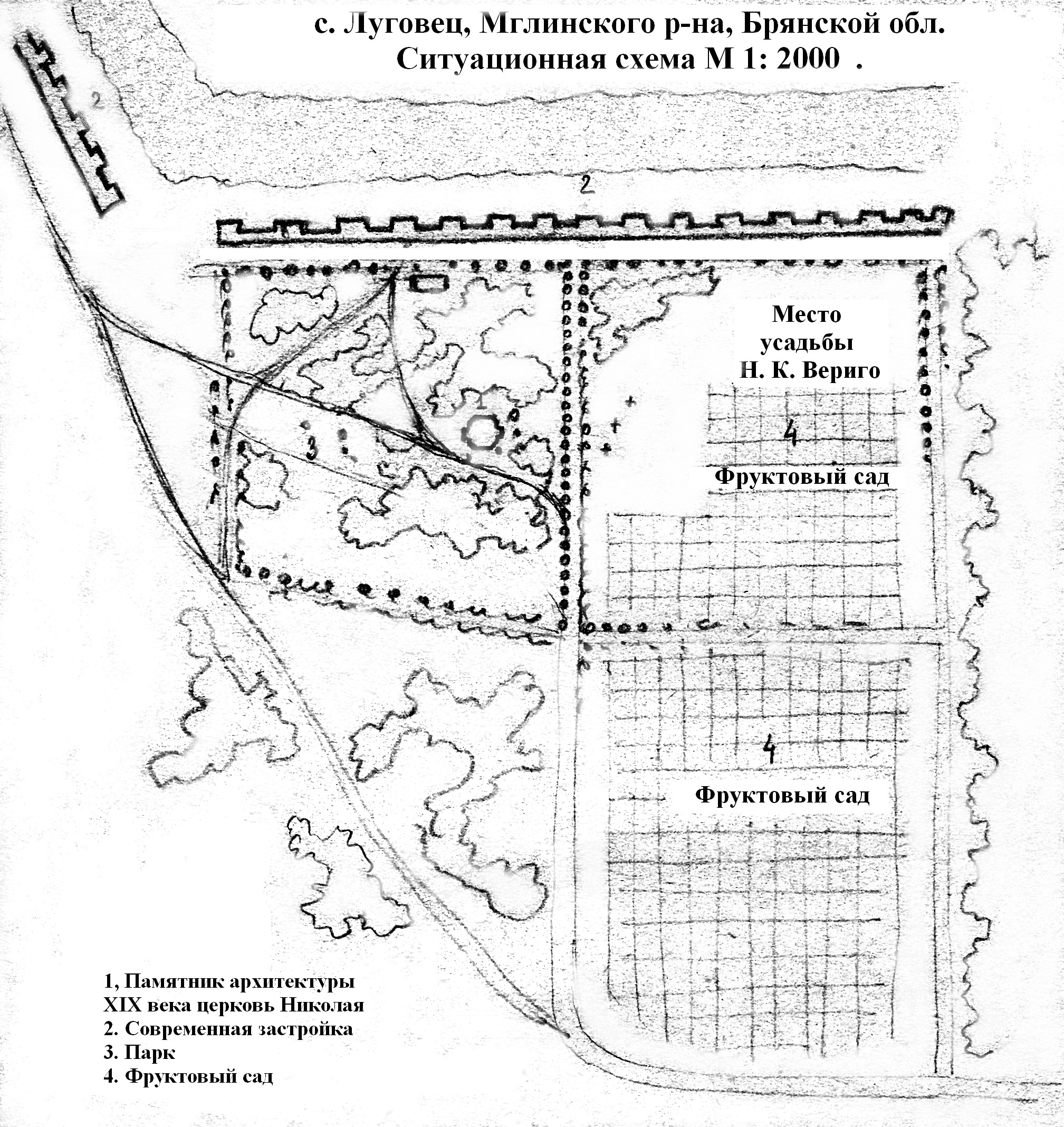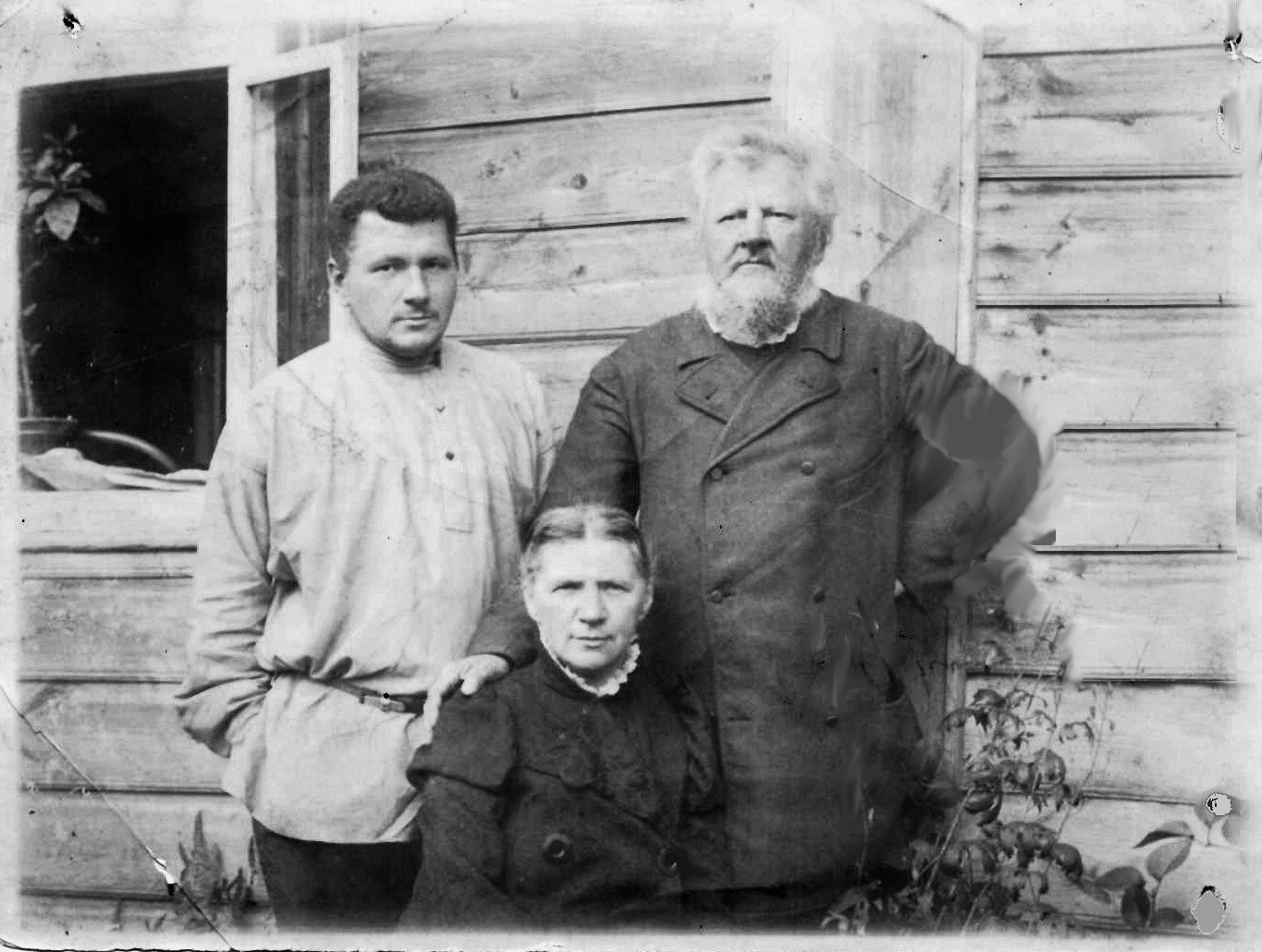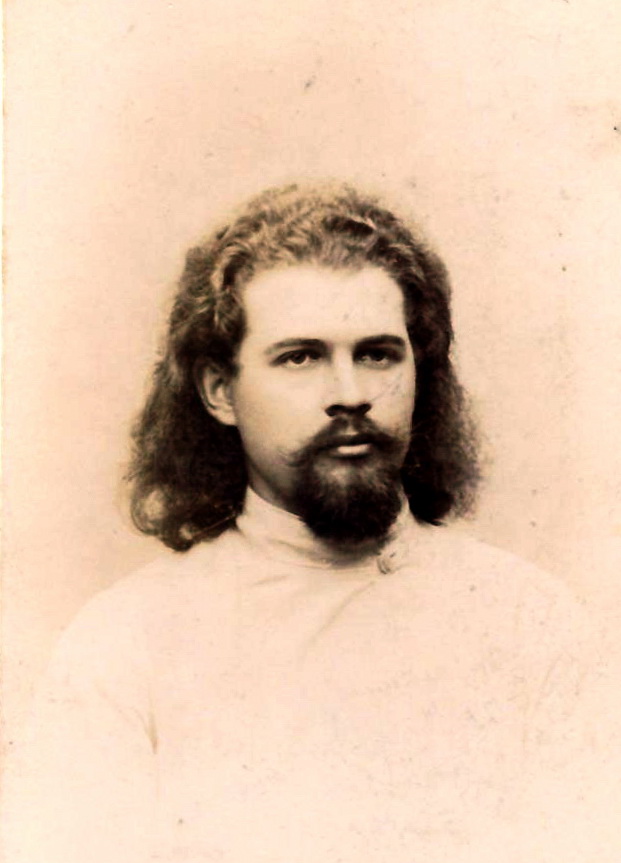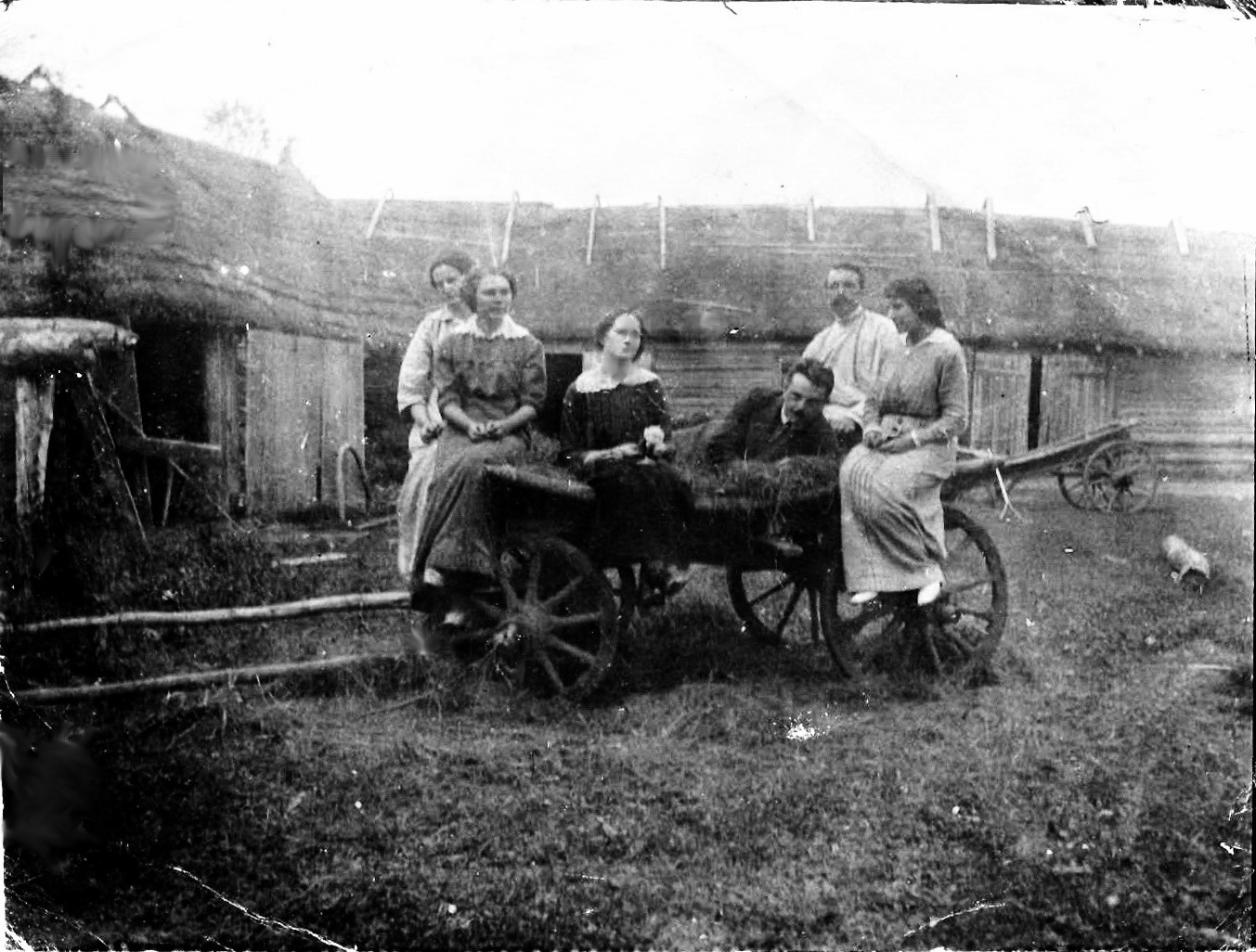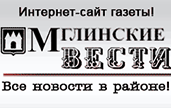–ê–Ω–¥—Ä–µ–π –¢–∏–º–æ—à–µ–Ω–∫–æ
–Ý–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏—è —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ
–¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –¥–æ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏, 2012.
–° —ç—Ç–æ–≥–æ —Ñ–æ—Ç–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ö—Ä–∞–º–∞ –¥–ª—è –º–µ–Ω—è. –ï—â—ë –≤ –Ω—É–ª–µ–≤—ã—Ö —è –±—ã–ª —á–∞—Å—Ç—ã–º –≥–æ—Å—Ç–µ–º –≤ —Å–µ–ª–µ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, –≥–¥–µ –∂–∏–ª–∞ —Å–µ–º—å—è –º–æ–µ–≥–æ —Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –¥—è–¥–∏. –Ø –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª –Ω–∞ –∫–∞–Ω–∏–∫—É–ª–∞—Ö –∫ –±—Ä–∞—Ç—É —Å —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π, –∏ –º—ã –º–Ω–æ–≥–æ –≥—É–ª—è–ª–∏ –ø–æ –æ–∫—Ä—É–≥–µ, –µ–∑–¥–∏–ª–∏ –∫—É–ø–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –ò–ø—É—Ç—å, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏ —è–±–ª–æ–∫–∏ –Ω–∞ –í–µ–ª–∏–∫–æ–º –ë–æ—Ä—É, —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –ª–µ—Å... –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ —ç—Ç–∏—Ö –º–µ—Å—Ç –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–∞ –º–µ–Ω—è —Å–≤–æ–µ–π –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–æ–π. –ù–æ —è –∏ –ø–æ–¥—É–º–∞—Ç—å —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –º–æ–≥, —á—Ç–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ—Å–Ω–æ –∂–∏–∑–Ω—å –º–µ–Ω—è —Å–≤—è–∂–µ—Ç —Å —ç—Ç–∏–º —Å–µ–ª–æ–º.
–ü–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è, —Ä–∞–∑, –ª–µ—Ç–æ–º 2008 –≥–æ–¥–∞, —è –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –∫–∞–Ω–∏–∫—É–ª—ã –∫ –±–∞–±—É—à–∫–µ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –±—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∏–∫, –∏ –ø–æ –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—é, –æ—Ç–¥–∞–≤ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ–µ –±–∞–±—É—à–∫–µ, –Ω–∞ –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥–∞—Ö –º—ã –ø–æ–º—á–∞–ª–∏ –≤ –µ–≥–æ —Ä–æ–¥–Ω–æ–µ —Å–µ–ª–æ. –ü–æ –ø—É—Ç–∏, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–≤–∞–µ—Ç, –º—ã —á–∞—Å—Ç–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ –æ —Ç–æ–º, –æ —Å–µ–º. –¢—É—Ç –Ω–∞ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–µ –∫ –õ—É–≥–æ–≤—Ü—É, —É –Ω–∞—Å –∑–∞—à—ë–ª —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –æ –≤–æ–π–Ω–µ, –∏ –±—Ä–∞—Ç —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ, —á—Ç–æ –≤ –∏—Ö —Å–µ–ª–µ, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ —à–∫–æ–ª–æ–π –µ—Å—Ç—å –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–∞—è –º–æ–≥–∏–ª–∞. –ú—ã —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –∑–∞–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å —Ç—É–¥–∞, –æ—Ç–¥–∞—Ç—å –¥–∞–Ω—å –ø–∞–º—è—Ç–∏ –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–º –∑–µ–º–ª—è–∫–∞–º. –ù–µ –∑–Ω–∞—é, –ø–æ—á–µ–º—É —Ä–∞–Ω—å—à–µ –º—ã –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ –±—ã–≤–∞–ª–∏, –Ω–æ —Ç–∞–∫ —É–∂ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –Ω–∞ —à–∫–æ–ª—å–Ω–æ–º –¥–≤–æ—Ä–µ –∏ –≤–æ–æ–±—â–µ, –≤ —ç—Ç–æ–º —É–≥–æ–ª–∫–µ —Å–µ–ª–∞, —è –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ. –°—ä–µ–∑–¥–∏–ª–∏ –¥–æ —à–∫–æ–ª—ã. –ë—Ä–∞—Ç –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –≤ –æ–∫–æ—à–∫–µ —à–∫–æ–ª—å–Ω—ã–π –º—É–∑–µ–π –∏ –ø–∞–º—è—Ç–Ω—É—é —Ç–∞–±–ª–∏—á–∫—É, –≥–ª–∞—Å–∏–≤—à—É—é, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å —É—á–∏–ª—Å—è –ò–≥–æ—Ä—å –ù–∏–∫–∏—Ñ–æ—Ä–æ–≤, –∑–µ–º–ª—è–∫ –∏–∑ –ì–æ–ª—è–∫–æ–≤–∫–∏, –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–π –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –ß–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã. –ü–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –∫ –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–æ–π –º–æ–≥–∏–ª–µ. –ú–µ–Ω—è –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–∞ –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–∞—è —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç—É—Ä–∞ —Å–∫–æ—Ä–±—è—â–µ–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏. –¢–∞–∫–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞–∑–∞ —è –µ—â—ë –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä. –í –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ —Å–≤–æ—ë–º, –≤ —Å—ë–ª–∞—Ö —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω—ã –æ–±–µ–ª–∏—Å–∫–∏ —Å –ø–∞–º—è—Ç–Ω—ã–º–∏ —Ç–∞–±–ª–∏—á–∫–∞–º–∏ –∏ —Ñ–∏–≥—É—Ä–æ–π –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞. –ê –∑–¥–µ—Å—å - –Ý–æ–¥–∏–Ω–∞-–º–∞—Ç—å, —Å–∫–æ—Ä–±—è—â–∞—è –ø–æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω—ã–º —Å–≤–æ–∏–º —Å—ã–Ω–æ–≤—å—è–º... –ë—Ä–∞—Ç —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥ –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª–æ–º —à–µ—Ñ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç —à–∫–æ–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Å–ª–µ–¥–∏—Ç –∑–∞ –µ–≥–æ –Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—â–∏–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º.
А потом случилась наша встреча. Неподалёку я заметил большое здание и спросил брата:«А это что?» Мы подъехали ближе. На табличке, прикреплённой возле входа была надпись «Памятник архитектуры Церковь-Николая Чудотворца 1862-1865 гг. Охраняется государством.» Сказать, что я был удивлён, ничего не сказать: угрюмое, но в тоже время величественное, огромного для этих мест размера строение, с прохудившейся жестяной крышей произвело на меня неизгладимое впечатление. Ну никак не было похоже это на церковь! В моей голове тогда не укладывалось, что здесь когда-то могли проходить службы. Здесь, в Луговце, я до этого момента бывал исключительно в новой части села, отстроенной для переселенцев, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ничем не примечательные дома - а тут такое. Мы обошли здание кругом. Окна с кованными решетками были забиты полиэтиленовой пленкой, железная дверь была вся в следах от пуль, а на маковке не было креста. Мы заглянули внутрь сквозь отверстие в двери. Внутри церковь была похожа на место съёмки советского фильма «Вий» по произведению Н.В. Гоголя. Просматривались хоры и незатейливая роспись на потолке. Мрачная, окутанная историей и тайнами она почему-то сразу завоевала мое сердце. Тогда я ещё не разбирался в архитектуре, но заметил, что эта церковь необычна. Скрытая от основной части села в липовой аллее, она как молчаливый свидетель хранила память о былом.
–° —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑, –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞—è –≤ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, —è –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è –µ–µ —Å—É–¥—å–±–æ–π. –£–∑–Ω–∞–ª –æ—Ç —Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∏–ª –æ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–µ –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –∏ –æ –Ω–µ–∫–æ–π –≥—Ä–∞—Ñ–∏–Ω–µ-—Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—Ü–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —è–∫–æ–±—ã –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª–∞ —Å—é–¥–∞ —É–∂–µ –≤ –Ω–∞—à–∏ –¥–Ω–∏. –í 2009 –≥–æ–¥—É –º—ã –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑–ª–∏ –±–∞–±—É—à–∫—É –∏–∑ —É–º–∏—Ä–∞—é—â–µ–π —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ –≤ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –ò —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä –Ω–∞–≤–µ—â–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ —è —Å—Ç–∞–ª —á–∞—â–µ.
–ö–∞–∫-—Ç–æ —Ä–∞–∑ –±–∞–±—É—à–∫–∞ –¥–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∞—Å—å –∏–∑ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ø—É—Ç–∫–∞—Ö. –ò –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≤–∏–ª–∫–µ –ú–≥–ª–∏–Ω-–ë—ã–∫–æ–≤–∫–∞-–ö–æ—Å–∞—Ä—ã –±–∞–±—É—à–∫—É –ª—é–±–µ–∑–Ω–æ –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–ª–∏ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ç–æ—Ä—ã –∏–∑ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å, –¥–µ—Ä–∂–∞–≤—à–∏–µ –ø—É—Ç—å –≤ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –û–Ω–∏-—Ç–æ –∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –µ–π –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏. –Ø –æ—á–µ–Ω—å –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ–π –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏! –ù–æ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç—è–º–∏: –∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ —Å –∫–∞–∂–¥—ã–º –≥–æ–¥–æ–º –≤–µ—Ç—à–∞–ª–æ –≤—Å–µ –±–æ–ª—å—à–µ –∏ –±–æ–ª—å—à–µ. –°—Ç–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞—Ç—å –∫—Ä—ã—à–∞, —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç –æ–±—Ä–∞—Å—Ç–∞–ª –ø–ª–µ—Å–µ–Ω—å—é, –ø—Ä–æ–ø–∞–ª–∏ —É–∑–æ—Ä—ã —Å –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–≥–æ —É–±—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ —Ö—Ä–∞–º–∞. –ê —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ç–æ—Ä—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª–∏.
–í 2015 –≥–æ–¥—É, –ø–æ—Å–ª–µ —Å–ª—É–∂–±—ã –≤ –∞—Ä–º–∏–∏, —è –≤–Ω–æ–≤—å –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∫ —Å–≤–æ–µ–º—É –ª—é–±–∏–º–æ–º—É –¥–µ–ª—É - –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—é –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –∏—Å–∫–∞–ª —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –æ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∂–∏–ª –≤ –¥. –í–æ—Ä–æ–±—å–µ–≤–∫–∞, –∏ –∏–º–µ–ª –≤ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ä–æ–¥–∞—Ö –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞. –ö —Ç–æ–º—É –º–æ–º–µ–Ω—Ç—É —è —É–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ—Ç –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –∫—Ä–∞–µ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ–º –∏ –±—ã–ª –∑–Ω–∞–∫–æ–º –ø–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∫–µ —Å —Ç–∞–∫–∏–º–∏ —É–≤–∞–∂–∞–µ–º—ã–º–∏ –∏ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –∫—Ä—É–≥–∞—Ö –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏, –∫–∞–∫ –ï.–ò. –õ–æ–º–∞–∫–æ, –ï.–ê. –ß–µ–ø–ª—è–Ω—Å–∫–∞—è... (–í—Å–µ —Å–≤–æ—ë –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ —è –ø—Ä–æ–≤—ë–ª –Ω–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω—â–∏–Ω–µ –∏ –º–Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —ç—Ç–∏—Ö –º–µ—Å—Ç, –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞, –æ–±—ã—á–∞–∏, —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏) –ù–∞ —Å–∞–π—Ç–µ mglin-krai.ru –≤ –º–∞–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ –Æ—Ä–∏–π –°–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫–∏–π. –û–Ω —Ä–∞–∑—ã—Å–∫–∏–≤–∞–ª —Å–≤–æ–∏—Ö —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø–æ—Ç–æ–º–∫–æ–≤ —Ç–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –í–µ—Ä–∏–≥–æ –∏–∑ –õ—É–≥–æ–≤—Ü–∞ –∏ –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤ –°–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö. –¢–∞–∫ –Ω–∞—á–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞—à–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –ø–æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏.
После личной встречи в Москве я дал Юрию некоторые сведения и наводки на людей, которые могли бы ему помочь с поиском родственников. Юра оказался очень заинтересованным и увлечённым исследователем истории своей семьи. Недолго собираясь, этим же летом, он отправился в Луговец. Там он познакомился с местными жителями, узнал подробности о жизни своих пращуров и об их добрососедских отношениях с крестьянами. Выяснилось, что Екатерина Брешко-Брешковская, вошедшая в историю как «Бабушка русской революции», действительно его родственник и, что изучением усадьбы в Луговце занимался ещё в 70-х именитый брянский архитектор В.Н. Городков. Потом были поездки в Киев, в Чехию на могилу Брешко-Брешковской, работа в архивах, встречи с очевидцами событий и свидетелями истории, такими, например, как Юлия Фёдоровна Сивакова. Но больше всего его, столичного жителя, поразило состояние церкви, в строительстве которой принимали участие и его предки. «Как, а почему не восстанавливают?» - спросил он меня тогда. «И действительно, почему?» - подумал я. Вместе с Ю. Саханским и Е. Ломако мы начали изучать вопрос. Так сложилась инициативная группа по восстановлению храма. Огромный вклад в дело восстановления церкви внесли Т.М. Литвинова, Е.С. Самусенко, С.Н. Сигуля, Ю.В. Саханский и многие другие.
–ù–∞ –ø—Ä–æ—Ç—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –¥–≤—É—Ö –ª–µ—Ç –º—ã –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º–∏ –∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º–∏ –≤–µ–¥–æ–º—Å—Ç–≤–∞–º–∏, –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏, –≤ —Ç.—á. –ú–∏–Ω–∫—É–ª—å—Ç –Ý–§, –Ý–ü–¶ –∏ –∫ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä—É –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ —Å –ø—Ä–æ—Å—å–±–æ–π –æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏–∏ –ø–∞—Ä–∫–∞-—É—Å–∞–¥—å–±—ã –í–µ—Ä–∏–≥–æ –≤ –õ—É–≥–æ–≤—Ü–µ –µ–¥–∏–Ω—ã–º –∞–Ω—Å–∞–º–±–ª–µ–º –∏ –æ –ø–æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–µ –µ–≥–æ –Ω–∞ —É—á—ë—Ç –∫–∞–∫ –≤–Ω–æ–≤—å –≤—ã—è–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–±—ä–µ–∫—Ç–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏—è, –æ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–µ–º–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ–º –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∞. –ù–æ –≤—Å–µ –±—ã–ª–æ —Ç—â–µ—Ç–Ω–æ. –ù–∞ –Ω–∞—à–∏ –∑–∞–ø—Ä–æ—Å—ã –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∏ –ª–∏—à—å –æ—Ç–ø–∏—Å–∫–∏ –∏ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã. –ê —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –ª–∏—Ü –∏ –≤–æ–≤—Å–µ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—à–µ–º—É –¥–µ–ª—É. –í —Å–µ–ª–µ –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ —Ä—è–¥–æ–º —Å —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å—é –∏ –∑–∞—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–∏–µ–º —á–µ—Ç—ã –í–µ—Ä–∏–≥–æ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å —á–∞—Å–æ–≤–Ω—é –Ω–∞ —Å–∫–æ—Ä—É—é —Ä—É–∫—É, –∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—Ç—å ¬´–≤—Å–µ–º –º–∏—Ä–æ–º¬ª –ø–æ—Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è (–Ω–∞ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–∞ –æ—Ñ–æ—Ä–º–ª–µ–Ω–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞ —É—á–µ—Ç–µ –∫–∞–∫ ¬´–±–µ—Å—Ö–æ–∑—è–π–Ω—ã–π –æ–±—ä–µ–∫—Ǭª). –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –º—ã –º–æ–≥–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ—Ç–µ—Ä—è—Ç—å —á—É—Ç—å –ª–∏ –Ω–µ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ –≤—Å—é –æ–∫—Ä—É–≥—É –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–≥–æ –∑–æ–¥—á–µ—Å—Ç–≤–∞! –ù–∞—á–∞–ª–∏—Å—å –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã —Å –æ—Ä–≥–∞–Ω–æ–º –æ—Ö—Ä–∞–Ω—ã –∏ —Å–ø–æ–Ω—Å–æ—Ä–∞–º–∏. –£–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∏–π—Ç–∏ –∫ –∫–æ–Ω—Å–µ–Ω—Å—É—Å—É: —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ —á–∞—Å–æ–≤–Ω–∏ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–ª–∏, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –∏ –≤–æ–≤—Å–µ –æ—Ç–º–µ–Ω–∏–ª–∏.
–ú—ã –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–µ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–µ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –í—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—ã –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –∏ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã. –Ý—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å, –ï–ª–µ–Ω–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–Ω–∞ –ó—É–±–æ–≤–∞, –æ—Ç–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤ –æ –ø–æ–º–æ—â–∏. –í–æ –º–Ω–æ–≥–æ–º –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –µ–π –¥–ª—è –Ω–∞—Å –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–æ–≤—ã–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞.
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –∏ –¥–æ –Ω–∞—Å –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å —É—Å–∞–¥–µ–±–Ω—É—é —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å. –ò –≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è, –∏ –≤ 90-—Ö, –∏ –ø—Ä–∏ –±—ã–≤—à–µ–º –≥–ª–∞–≤–µ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ –ö–æ–Ω–¥—Ä–∞—Ç –ù.–ù. –±—ã–ª –¥–∞–∂–µ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏ (—Ä–∞–∑–¥–µ–ª –Ý–î). –ù–æ —Å—É–º–º—ã, —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –Ω–∞ –ø–æ–∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Å–µ–ª—è–Ω, –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –ø—Ä–æ–ø–∞–ª–∏, –∏ –¥–µ–ª–æ –∑–∞—Ç–∏—Ö–ª–æ...
–í 2017 –≥–æ–¥—É —è –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–ª –ø–µ—Ç–∏—Ü–∏—é –Ω–∞ –∏–º—è –ú–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –Ý–§ –ú–µ–¥–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å –ø—Ä–æ—Å—å–±–æ–π –æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ —Å–≤—è—Ç—ã–Ω–∏. –ù–∏ –Ω–∞ —á—Ç–æ –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—è, —è —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å—Å—ã–ª–∞—Ç—å –ø–µ—Ç–∏—Ü–∏—é –ø–æ –¥—Ä—É–∑—å—è–º –∏ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–º. –ò –≤ –æ–¥–∏–Ω –ª–µ—Ç–Ω–∏–π –¥–µ–Ω—å —Ä–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –∑–≤–æ–Ω–æ–∫. –ú–Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏–ª–∏ –∂–∏—Ç–µ–ª–∏ –õ—É–≥–æ–≤—Ü–∞ –∏ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—å, —Å–æ–±—Ä–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –≤ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–º –∫–ª—É–±–µ, –∏ –∑–∞—è–≤–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –≤ –¥–∞–Ω–Ω–æ–π –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–µ. –ù–µ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—å —Ç–µ—Ö —á—É–≤—Å—Ç–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –º–µ–Ω—è —Ç–æ–≥–¥–∞. –≠–π—Ñ–æ—Ä–∏—è! –ü—Ä–æ—Å—Ç—ã–µ –ª—é–¥–∏ –≤ –µ–¥–∏–Ω–æ–º –ø–æ—Ä—ã–≤–µ —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –∑–∞—â–∏—Ç–∏—Ç—å —Å–≤–æ—é –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–≤–∞–ª–æ –Ω–µ —Ä–∞–∑ —Å –∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–∫–∞–º–∏. –ò –º—ã —Å –µ—â—ë –±–æ–ª—å—à–∏–º —ç–Ω—Ç—É–∑–∏–∞–∑–º–æ–º –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏—Å—å –∑–∞ –¥–µ–ª–æ.
–¢—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–≤—à–∏—Å—å, –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–≤ –ø—Ä–µ—Å—Å—É, —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, 07.08.2017 –º—ã –ø—Ä–æ–≤–µ–ª–∏ I –æ—á–Ω–æ–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ø–æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –°–≤. –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞. –°–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤–æ–∑–ª–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –Ω–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–º –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ, –ø–æ–≥–æ–¥–∞ –±–ª–∞–≥–æ–≤–æ–ª–∏–ª–∞. –°–æ–±—Ä–∞–ª–æ—Å—å –º–Ω–æ–≥–æ –ª—é–¥–µ–π, —Å–µ–ª—è–Ω–µ —Ä–∞–¥—É—à–Ω–æ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ –≥–æ—Å—Ç–µ–π. –í—Å–µ –±—ã–ª–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã –∫ –¥–∏–∞–ª–æ–≥—É, –≤—ã—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —á–∞—è–Ω–∏—è –ø–æ –ø–æ–≤–æ–¥—É —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏. –ü—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏—é –∏ –∫—Ä–∞—Ç–∫–∏–π –∫—É—Ä—Å –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –ø—Ä–æ–≤—ë–ª –ï.–ò. –õ–æ–º–∞–∫–æ. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏—è –∏–∑ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –í–û–û–ü–ò–∏–ö –ê.–ì. –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã–º, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –µ–≥–æ –∫–æ–ª–ª–µ–≥–∏ –∏–∑ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞. –î–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–Ω–∏ –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–ª–∏ –õ—è–ª–∏—á–∏ –∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ–º–∞–ª–æ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω—ã –º–æ–Ω—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —É—Å–∞–¥—å–±—ã, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –æ–± –æ–ø—ã—Ç–µ –≤–æ–≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏—è –≤–æ–ª–æ–Ω—Ç–µ—Ä–æ–≤ –≤ –¥–µ–ª–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã. –í –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–º –º—ã –Ω–µ —Ä–∞–∑ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∏—Å—å —Å –ê—Ä—Ç—ë–º–æ–º –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã–º, –ü–∞–≤–ª–æ–º –®–∏—à–º–∞—Ä–µ–≤—ã–º –∏ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–∏ –ø–æ–º–æ—â—å –≤ –Ω–µ–ª—ë–≥–∫–æ–º –¥–µ–ª–µ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ—Ç –í–û–û–ü–ò–∏–ö. –¢–∞–∫, –ø–æ –ø—Ä–æ—Å—å–±–µ –ï.–ú. –ó—É–±–æ–≤–æ–π –±—Ä—è–Ω—Å–∫–∏–º –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç–æ—Ä–æ–º –±—ã–ª —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç –∑–æ–Ω—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–µ–¥–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª –±—ã –∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ—Ç –≤–ª–∏—è–Ω–∏—è –æ—Å–∞–¥–∫–æ–≤ –∏ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–≥–æ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–µ –≥–æ–¥—ã. –ù–æ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç—É –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤–æ–ø–ª–æ—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤ –∂–∏–∑–Ω—å. –û—Å–µ–Ω—å—é 2017 –≥–æ–¥–∞ —Å–∏–ª–∞–º–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –º—ã —Å —É—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏—è –≥–æ—Å–æ—Ä–≥–∞–Ω–∞ –Ω–∞–∫—Ä—ã–ª–∏ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –∑–∞—â–∏—Ç–∏—Ç—å –æ—Ç –æ—Å–∞–¥–∫–æ–≤. –û–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–º, –∫—Ç–æ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –≤ —ç—Ç–æ–º –ø–æ—Å–∏–ª—å–Ω–æ–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—É—é –ø–æ–º–æ—â—å.
–ó–∞—Ç–µ–º, –ø–æ—Å–ª–µ –¥–æ–ª–≥–∏—Ö –∏ —É–ø–æ—Ä–Ω—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–æ–∫, –≤—Å—Ç—Ä–µ—á —Å –∑–∞–º–≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤–∫–ª—é—á–∏–ª–∏ –≤ –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—É "–Ý–∞–∑–≤–∏—Ç–∏–µ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –∏ —Ç—É—Ä–∏–∑–º–∞ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª. 2016-2020 –≥–≥.". –ù–∞ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–Ω–æ-–≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –∏–∑ –±—é–¥–∂–µ—Ç–∞ –±—ã–ª–∏ –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω—ã –ø–æ—á—Ç–∏ 10 –º–ª–Ω —Ä—É–±–ª–µ–π. –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—É–¥ –ø—Ä–∏ —É—á–∞—Å—Ç–∏–∏ –ö–ª–∏–Ω—Ü–æ–≤—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∏ –∏ –≥–ª–∞–≤—ã —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ –ü—É—â–∏–µ–Ω–∫–æ –ê.–ê. –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–Ω–∞ –≤ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –Ý–ü–¶. –ë—ã–ª–∞ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∞ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∞—è –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏—è –∏ –ø–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞–º –∑–∞–∫—É–ø–∫–∏ –±—ã–ª–∞ –≤—ã–±—Ä–∞–Ω–∞ —Ç–∞–º–±–æ–≤—Å–∫–∞—è –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–Ω–∞—è –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è –û–û–û ¬´–Ý–æ—Å—Ç–µ—Ö–ø—Ä–æ–µ–∫—Ǭª, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∞ –ø–æ–ª–Ω–æ—Ü–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ 2018 –≥–æ–¥—É. –ò –≤ 2019 –≥–æ–¥—É –∫ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–º –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∏ –û–û–û ¬´–î–∞—Ä–≥–µ–ª—嬪, –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∏–∑ –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫–∞, —Ç–µ—Å–Ω–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–æ–π —Å –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å—é. –û–Ω–∏ –∂–µ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –≤ –û–≤—Å—Ç—É–≥–µ –∏ –ö–ª–∏–Ω—Ü–∞—Ö...
И вот, в декабре 2020 года должны были завершиться реставрационные работы. Подрядчик заметно спешил получить свои деньги, многие технологии так и не были соблюдены, не смотря на замечания наблюдательной группы. На протяжении выполнения работ не раз возникали спорные ситуации, от этапа проектирования до сдачи объекта, в т.ч. и по вопросам допфинансирования и спонсорского участия. Так, проектом не были предусмотрены работы по утеплению крыши, целиком утрачена в процессе разбора подлежавшая ещё реставрации роспись над входной группой храма, не соблюдены пропорции и конструкция оконных и дверных проемов, изначально существовавших, вместо рубленных стыков фасад церкви увидел новую обшивку деревянной выгонкой типа «термоосина»... В итоге, церкви, конечно, не вернули исходный вид и вряд ли это можно назвать реставрацией, скорее реконструкцией (из старых материалов все же использованы методом «переборки» лучшие венцы, колонны, решетки на окнах).
–¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏, 2020.
Уже сейчас идёт сбор средств для устройства внутреннего убранства церкви. К сожалению, ничего до нас не дошло: ни чертежей, ни фото, ни зарисовок. Не поставлен ещё на кадастровый учёт земельный участок под церковью, не привязано здание к нему, нет отопления и не заведено электричество. Это будет обновлённый храм, с новым иконостасом. Но церковь по образу и подобию на старом, исстари предназначенном для этого месте – не часовня. И это радует. Не смотря на скептицизм многих, церковь в Луговце нужна. Спросите жителей. А сохранённый памятник архитектуры на Мглинщине, которых до нас дошли крупицы, - тем более. Это я Вам как краевед заявляю.
–ö–∞–∫ –≤ –∏—Ç–æ–≥–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å –æ–±—ä–µ–∫—Ç –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏—è - —Å—É–¥–∏—Ç—å —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–∞–º –∏ –ª—é–¥—è–º. –ù–æ –≤—Å–µ –∂–µ, —è —Ä–∞–¥, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Å–≤–µ—Ä—à–∏–ª–æ—Å—å, –∏ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –æ–±—Ä–µ–ª–∞ —Å–≤–æ—é –≤—Ç–æ—Ä—É—é –∂–∏–∑–Ω—å. –ö—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —Å–ø—É—Å—Ç—è –≥–æ–¥–∞, –Ω–∞—à–∏ –¥–µ—Ç–∏ –∏ –≤–Ω—É–∫–∏ —Å–∫–∞–∂—É—Ç —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ –Ω–∞–º, –∑–∞ —Ç–æ —á—Ç–æ –º—ã —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏ –¥–ª—è –Ω–∏—Ö —á–∞—Å—Ç–∏—á–∫—É –ø–∞–º—è—Ç–∏ –æ –Ω–∞—à–∏—Ö —Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥–∫–∞—Ö –∏ –∏—Ö –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –¥–µ–ª–∞—Ö. –ù–∞–¥–µ—é—Å—å, –∏ –≤ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏, –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ –Ω–∞–π–¥—É—Ç—Å—è —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–≤–ª–µ–Ω–∏–µ, –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –∏ –Ω–µ–±–µ–∑—Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏.
–ê–Ω–æ–Ω—Å –∫–Ω–∏–≥–∏
–ê.–í. –®–ø—É–Ω—Ç–æ–≤. –õ–ò–®–ò–ù–´. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —Ä–æ–¥–∞
–ö–Ω–∏–≥–∞ –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö –æ—Ç —Å–∞–º–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –¥–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏.
–Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ –≤—Å–µ—Ö –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è—Ö —Ä–æ–¥–∞, –¥–∞—é—Ç—Å—è –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–∏ –∫ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–º —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è–º, –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è
(–∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ) —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏, —Å–±–µ—Ä–µ–∂—ë–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º–∏. –ö–Ω–∏–≥–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –∞—Ä-
—Ö–∏–≤–Ω—ã—Ö –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–æ–≤, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—ã –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ü–∏—Ç–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è.
–ö—Ä–æ–º–µ —ç—Ç–æ–≥–æ, –æ–±–∑–æ—Ä–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ä–æ–¥–∞—Ö, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ —Å —Ä–æ–¥–æ–º –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö, –∫–∞–∫ —Ç–æ:
–ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤—ã, –í–µ–ª–∏–æ, –ö–∞–ø–Ω–∏—Å—Ç—ã, –õ–∞–π–∫–µ–≤–∏—á–∏, –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏–µ, –Ý—É–±—Ü—ã, –Ý–æ—Å–ª–∞–≤—Ü—ã, –ö–æ–≤–∞–Ω—å–∫–æ –∏ –¥—Ä.
–í –ü—Ä–∏–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω—ã –∫–∞–∫ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è, —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤—Ä–µ–Ω–∏—è –∏ –∑–∞–ø–∏—Å–∫–∏ —Å–∞–º–∏—Ö –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö, —á—Ç–æ –∏–º–µ–µ—Ç –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ö–æ–¥—è—â—É—é
–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, —Ç–∞–∫ –∏ –æ—á–µ—Ä–∫–∏, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã–µ –ª–∏–±–æ –∏—Ö —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏, –ª–∏–±–æ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞–º–∏ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, —Å—Ä–µ–¥–∏
–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ—Å–æ–±–æ –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª—å –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞ —Ä–æ–¥–∞ –∏ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä –µ–≥–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –í.–§. –í–µ–±–µ—Ä.
–ö–Ω–∏–≥–∞ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç–∞–Ω–∞ –Ω–∞ –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–æ–≤, –∫—Ä–∞–µ–≤–µ–¥–æ–≤ –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏.
Многолетнее служение Отечеству – вот стержень этой книги, повествующей
–æ —Ä–æ–¥–µ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö.
–Ý–æ–¥ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö (–∏–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ ‚Äì –î—É–¥–∏—Ü–∫–∏—Ö-–õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö) –≤—ã—à–µ–ª —Å –í–æ–ª—ã–Ω–∏ –≤ XVII
–≤–µ–∫–µ, –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ –±—ã–ª –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω –≤–æ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–µ –ü—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–º –°–µ–Ω–∞—Ç–æ–º —Å –≤–Ω–µ—Å–µ-
–Ω–∏–µ–º –≤ 6-—é —á–∞—Å—Ç—å —Ä–æ–¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–≥–∏ (–¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–µ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–æ).
–õ–∏—à–∏–Ω—ã —Å–ª—É–∂–∏–ª–∏ –∏ —Å–ª—É–∂–∞—Ç –Ω—ã–Ω–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —É–∂–µ –ø—è—Ç—ã–π –≤–µ–∫: —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∏ –æ—Ñ–∏-
—Ü–µ—Ä—ã –∏ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—ã, —Ñ–ª–æ—Ç–æ–≤–æ–¥—Ü—ã –∏ –∞–≤–∏–∞—Ç–æ—Ä—ã, –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä—ã –∏ –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä—ã, –ø–æ—ç—Ç—ã –∏ –º—É-
зыканты, священники и врачи…
–°–ª—É–∂–∏–ª–∏, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –º—É–∂—á–∏–Ω—ã, —Ç–∞–∫ —É–∂ —É –Ω–∞—Å —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∏ –¥–∞–º—ã –Ω–µ
оставались в стороне – некоторые отметились благотворительной деятельностью,
–∫–æ–º—É-—Ç–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å –±—ã—Ç—å —Å—ë—Å—Ç—Ä–∞–º–∏ –º–∏–ª–æ—Å–µ—Ä–¥–∏—è (–∏ –¥–∞–∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∞—Ç—å –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥—ã
за это), иные избирали монашеское служение…
–°–ª—É–∂–∏–ª–∏ –∏ —Å–ª—É–∂–∞—Ç —Å –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ–º: –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ —Å–≤–æ–µ–π –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ —Ä–æ–¥—É,
—á—å—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —Å–≤—è–∑–∞–Ω–∞ —Å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–µ–π –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞, —á—å—è –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–µ–ø—É—Ç–∞—Ü–∏—è –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ
–∑–∞–ø—è—Ç–Ω–∞–Ω–∞ –∏ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –æ–±—â–∏–º –¥–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º —Ä–æ–¥–∞, –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º–∏
за её сохранение – все эти соображения и мотивы и есть источник чувства чести.
Летопись рода – это срез общероссийского бытия, зеркало, в котором отража-
–µ—Ç—Å—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞; –∏ —ç—Ç–æ –Ω–µ –∏–∑–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥–∫–æ–≤
к потомкам. Вокруг – бурлящее море событий, исторических перипетий, людских
судеб. С кем-то Лишины роднятся, с кем-то вместе служат…
Что для человека XIX века Отечество? В имении – семья, в столице – Госу-
дарь, а на небе – Бог. Современность, конечно, внесла в эту триаду некоторые
коррективы, но осталось главное – служение Отечеству.
Так давайте перелистаем страницы истории этого славного рода – одного из
—Ç—ã—Å—è—á —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö —Ä–æ–¥–æ–≤; –∏ –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –∫–∞–∂–¥–æ–π —Ñ–∞–º–∏-
–ª–∏–∏, –∫–∞–∫ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏ –µ—ë –õ–∏—à–∏–Ω—ã; –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –≥–æ—Ä–¥–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞—à–µ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–µ–π, –∫–∞–∫ –≥–æ—Ä–¥—è—Ç—Å—è
историей своего рода Лишины…
***
–û–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª (–±–æ–ª–µ–µ —Ç—ã—Å—è—á–∏ –∞—Ä—Ö–∏–≤–Ω—ã—Ö –ª–∏—Å—Ç–æ–≤, –¥–µ—Å—è—Ç–∫–∏ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–π,
–º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –∞—Ä—Ç–µ—Ñ–∞–∫—Ç–æ–≤), —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–∏ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–º —É—á–∞—Å—Ç–∏–∏ –í.–§. –í–µ–±–µ—Ä–∞, —Å–±–µ—Ä–µ-
–∂—ë–Ω–Ω—ã–π –ª—é–¥—å–º–∏, –ø—Ä–∏—á–∏—Å–ª—è—é—â–∏—Ö —Å–µ–±—è –∫ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º —Ä–æ–¥–∞ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö (–í.–ï. –ë–µ–ª–∏–∫–æ-
–≤—ã–º, –ê.–ò. –î—É–¥–∏–Ω—ã–º), –∞–∫–∫—É–º—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω—ã–Ω–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–∏—á–µ–º –õ–∏—à–∏-
–Ω—ã–º, –Ω–µ–∏–∑–±–µ–∂–Ω–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å —Ñ–æ—Ä–º—É –∫–Ω–∏–≥–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–Ω —É–ø–æ—Ä—è–¥–æ—á–µ–Ω, —Å–∏-
—Å—Ç–µ–º–∞—Ç–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω, —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —Å–æ–∫—Ä–∞—â—ë–Ω –∏ —Å–Ω–∞–±–∂—ë–Ω –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏—è–º–∏ –¥–ª—è —É–¥–æ–±—Å—Ç–≤–∞ –≤–æ—Å-
–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è. –ò –º–Ω–µ, –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–º—É —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—é –∏ –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ç–æ—Ä—É, –≤—ã–ø–∞–ª–∞
—á–µ—Å—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —ç—Ç—É –∫–Ω–∏–≥—É –Ω–∞ —Å—É–¥ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–π.
–ù–æ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, —á–µ–º –ø—ã—Ç–ª–∏–≤—ã–π —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –æ—Ç–∫—Ä–æ–µ—Ç –ø–µ—Ä–≤—É—é –≥–ª–∞–≤—É, —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã –∫–æ-
—Ä–æ—Ç–∫–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –æ —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –∏ –µ—ë –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö.
–ü—Ä–µ–¥–∏—Å–ª–æ–≤–∏–µ –æ—Ç —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è
–ü—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä—è—é—Ç —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ –æ —Ä–æ–¥–µ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–µ –≤–≤–æ–¥–Ω—ã–µ –≥–ª–∞–≤—ã: –≤ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∏–∑
них изложена легенда о происхождении рода, в другой исследуется герб – важ-
–Ω–µ–π—à–∏–π –∞—Ç—Ä–∏–±—É—Ç –∏ –≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∏–¥–µ–Ω—Ç–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ç–æ—Ä —Ä–æ–¥–∞, –∞ –≤ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–π –¥–∞—ë—Ç—Å—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏-
—á–µ—Å–∫–∞—è —Å–ø—Ä–∞–≤–∫–∞ –æ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–º —Å–æ—Å–ª–æ–≤–∏–∏ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º –∏ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è –∞—Ä—Ö–∏–≤–Ω—ã–µ –¥–æ–∫—É-
–º–µ–Ω—Ç—ã, –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—é—â–∏–µ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–µ –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö.
–î–∞–ª–µ–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è—Ö —Ä–æ–¥–∞.
–ù–∞ —Ñ–æ—Ä–∑–∞—Ü–∞—Ö —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –º–æ–∂–µ—Ç –≤–∏–¥–µ—Ç—å —Ä–æ–¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–µ –î—Ä–µ–≤–æ, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏ –æ—Ç-
—Ä–∏—Å–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–º. –ò –≤ –≥–ª–∞–≤–Ω–µ–π—à–µ–π, –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π, –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è
—Ä–∞–∑–±–∏—Ç–∞ –Ω–∞ –≥–ª–∞–≤—ã –≤ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å –≤–µ—Ç–≤—è–º–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –î—Ä–µ–≤–∞, –∫–∞–∂–¥–∞—è –≥–ª–∞–≤–∞ –ø—Ä–µ–¥–≤–∞-
—Ä—è–µ—Ç—Å—è —É–≤–µ–ª–∏—á–µ–Ω–Ω—ã–º —Ñ—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç–æ–º —Ä–æ–¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –î—Ä–µ–≤–∞ –≤ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å–æ —Å—Ö–µ–º–∞-
тическим делением на «линии» и «ветви», а также «колена».
–ü–æ–∫–∞ –∂–µ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–º –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã–µ –≤ –∫–Ω–∏–≥–µ –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è: –º—É–∂—Å–∫–∏–µ –∏–º–µ–Ω–∞ (–∞ —Ç–∞–∫–æ–≤—ã—Ö
–∏–º—ë–Ω 194) –∏–º–µ—é—Ç –ø–æ—Ä—è–¥–∫–æ–≤—ã–π –Ω–æ–º–µ—Ä, –ø—Ä–∏—Å–≤–∞–∏–≤–∞–µ–º—ã–π –ø–æ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω—Å—Ç–≤—É –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π
–≤–µ—Ç–≤–∏ –∏ –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–º –∫–æ–ª–µ–Ω–µ, –∏ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω—ã –≤ —Ä–∞–º–∫—É –≤ –≤–∏–¥–µ –≥–µ—Ä–±–æ–≤–æ–≥–æ —â–∏—Ç–∞.
–î–∞–º—ã, —Ö–æ—Ç—è –∏—Ö –Ω–∞ –î—Ä–µ–≤–µ –æ–∫–æ–ª–æ 80, –Ω–µ –ø—Ä–æ–Ω—É–º–µ—Ä–æ–≤–∞–Ω—ã (–ø–æ —Ç–æ–π –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏
–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—é—Ç —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º). –ñ–µ–Ω—Å–∫–∏–µ –∏–º–µ–Ω–∞ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω—ã –≤ –æ–≤–∞–ª (–æ–≤–∞–ª—å–Ω–∞—è
—Ñ–æ—Ä–º–∞ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–∞ –¥–ª—è –¥–∞–º—Å–∫–æ–≥–æ –≥–µ—Ä–±–∞).
–ù–∞ –æ–±—â–µ–º –î—Ä–µ–≤–µ –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–Ω—ã –±—Ä–∞—á–Ω—ã–µ —Å–æ—é–∑—ã, –∑–∞—Ç–æ –≤–∞–∂–Ω–µ–π—à–∏–µ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –ø–æ–∫–∞–∑–∞–Ω—ã
на тех фрагментах («ветвях»), что в увеличенном виде приводятся в каждой главе.
Часть овальных рамок окрашена в сиреневый цвет – в том случае, если дама
–≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞–º—É–∂ –∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–∞ –µ—ë –∏–∑–º–µ–Ω—ë–Ω–Ω–∞—è —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è (—Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è –º—É–∂–∞).
–ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ä–∞–º–∫–∏ –æ–∫—Ä–∞—à–µ–Ω—ã –≤ —Ä–æ–∑–æ–≤—ã–π, –ø—Ä–∏—á—ë–º –∫–∞–∫ –∂–µ–Ω—Å–∫–∏–µ, —Ç–∞–∫ –∏ –º—É–∂—Å–∫–∏–µ.
–≠—Ç–∏–º —Å–ø–æ—Å–æ–±–æ–º –æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω—ã –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∏ (–≤ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö) –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö, –Ω–æ—Å—è—â–∏–µ
–¥—Ä—É–≥—É—é —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é.
В рамочках рядом с именами (мужскими) – цифры: чаще всего это даты жизни
(но иногда – только год рождения, иногда – год смерти), встречаются и даты об-
особленные (в круглых скобках) – случайного упоминания в документах.
***
–û –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –æ—Å–æ–±–æ.
–í –∫–Ω–∏–≥–µ —Ü–∏—Ç–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã XVIII, XIX –≤–≤. –î–∞–±—ã, —Å –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, —É–ø—Ä–æ-
стить изложение материала, а с другой – передать особенности цитируемых доку-
–º–µ–Ω—Ç–æ–≤, –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ —Ü–∏—Ç–∞—Ç –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –æ—Ä—Ñ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏, —Å –∑–∞–º–µ–Ω–æ–π
только дореформенных литер (ѣ, Ѳ, Ѧ, і ) на привычные, с удалением «ъ» на конце
—Å–ª–æ–≤, –¥–∞ –∏–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ —Å —Ä–∞—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–æ–π –∑–Ω–∞–∫–æ–≤ –ø—É–Ω–∫—Ç—É–∞—Ü–∏–∏ –Ω–∞ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π –º–∞–Ω–µ—Ä.
В старых текстах отсутствует буква «ё», и в этих случаях читателю она не встре-
—Ç–∏—Ç—Å—è, —Ö–æ—Ç—è –∫ —ç—Ç–æ–π –±—É–∫–≤–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –≤–µ—Å—å–º–∞ —É–≤–∞–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –ü—Ä–æ–ø–∏—Å–Ω—ã–µ –∏ —Å—Ç—Ä–æ—á-
–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –¥–∞—é—Ç—Å—è –≤ —Ç–æ–º –≤–∏–¥–µ, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è—é—Ç—Å—è –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö.
–ü–æ–ø—É—Ç–Ω–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–º, —á—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞ –º–æ–≥–ª–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å—Å—è —Ä–∞–∑-
–ª–∏—á–Ω—ã–µ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—è –æ–¥–Ω–∏—Ö –∏ —Ç–µ—Ö –∂–µ —Å–ª–æ–≤.
–ü—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–º—ã–µ –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö –≥–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏—è –±–æ–ª—å—à–µ–π —á–∞—Å—Ç—å—é —É–¥–∞–ª–æ—Å—å
—Å–æ–æ—Ç–Ω–µ—Å—Ç–∏ —Å —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–º–∏, –∏ –ø—Ä–∏ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –∫ —ç—Ç–æ–º—É –¥–∞—ë—Ç—Å—è –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–π (–∏–ª–∏
–ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è –∫–∞—Ä—Ç–∞).
–ö —Å–∫—É–ø–æ–º—É –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º—É –ø–µ—Ä–µ—á–Ω—é –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥ –∏ –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—Ö–æ–¥–æ–≤ –∞–≤—Ç–æ—Ä –¥–æ–±–∞-
вил, в меру возможности, некоторые подробности – карты, иллюстрации и спра-
–≤–æ—á–Ω—ã–µ —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è (–≤–µ–¥—å –º–Ω–æ–≥–∏–µ —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –∑–∞–±—ã—Ç—ã, –∞ –æ –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –±–æ–µ–≤—ã—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π
–∑–Ω–∞—é—Ç —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã), –¥–∞–±—ã –ø–µ—Ä–µ–¥ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–ª–∞ –æ–±—â–∞—è –∏—Å-
—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –ø–∞–Ω–æ—Ä–∞–º–∞: –≥–¥–µ –∏ –∑–∞ —á—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–∏ –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥—ã –õ–∏—à–∏–Ω—ã, –≤–æ –∏–º—è —á–µ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ä-
—à–∞–ª–∏—Å—å –±–∞—Ç–∞–ª–∏–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ.
–ö —á–∞—Å—Ç–∏, –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–π –æ —Ä–æ–¥–µ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö, —Ç–µ—Å–Ω–æ –ø—Ä–∏–º—ã–∫–∞–µ—Ç –∏ –¥—Ä—É–≥–∞—è, —Ç–æ–∂–µ –≥–µ-
–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∞—è, —á–∞—Å—Ç—å.
–ë–æ–∫ –æ –±–æ–∫ —Å –õ–∏—à–∏–Ω—ã–º–∏ –∂–∏–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö —Ä–æ–¥–æ–≤, —Å –∫–æ—Ç–æ-
—Ä—ã–º–∏ –õ–∏—à–∏–Ω—ã —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏ –≤ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞. –í–µ–¥—å –±—Ä–∞–∫–∏ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –∑–∞–∫–ª—é—á–∞-
–ª–∏—Å—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ –ª—é–±–≤–∏, –∞ –≤–æ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö —è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏–µ–º
не двух человек – жениха и невесты, а двух семей, двух родов; на первом месте
–ø—Ä–∏ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–∏ –±—Ä–∞–∫–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—ã –¥–≤—É—Ö —Å–µ–º–µ–π.
–ò –≤ –∫–Ω–∏–≥–µ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å —É–∑–Ω–∞–µ—Ç –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –æ —Ä–æ–¥–∞—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ —Å
–õ–∏—à–∏–Ω—ã–º–∏.
В XVIII – XIX вв. в дворянской среде сохранялось очень большое внимание
–∫ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º, —Å–≤–æ–π—Å–∫–∏–º (—á–µ—Ä–µ–∑ –±—Ä–∞–∫), –∫—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–º (–ø–æ –æ–±—Ä—è–¥—É –∫—Ä–µ—â–µ–Ω–∏—è) –æ—Ç–Ω–æ-
—à–µ–Ω–∏—è–º: –æ–±—ã—á–Ω–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å —É—á—ë—Ç–æ–º –µ–≥–æ –ª–∏—á–Ω—ã—Ö –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤,
–Ω–æ –∏ –∫–∞–∫ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—â–∏–π –∫ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω–æ–º—É —Ä–æ–¥—É –∏ —Å–µ–º—å–µ, –¥–æ–≤–µ—Ä–∏–µ –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —Ä–∞—Å-
пространялось и на их представителей («по отцу и сыну честь»). Оказание по-
–º–æ—â–∏ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫—É (–∏ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫—É) –∏ –¥–∞–∂–µ –ø—Ä—è–º–∞—è –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫—Ü–∏—è –ø–æ —Å–ª—É–∂–±–µ
—Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—å –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏.
–ó–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ–±–∑–æ—Ä —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–æ–º –æ –í–µ–±–µ—Ä–∞—Ö, –ë–µ–ª–∏–∫–æ–≤—ã—Ö –∏ –î—É-
диных (упомянутых выше) – как о хранителях реликвий рода Лишиных.
***
–ù–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è –≥–ª–∞–≤–∞ –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∞ —Ç–µ–º –º–µ—Å—Ç–∞–º, –≥–¥–µ –∂–∏–ª–∏ –õ–∏—à–∏–Ω—ã ‚Äì –Ý–æ—Å—Ç–µ–æ, –û–¥–µ—Å—Å–∞,
–°–∞–º–∞—Ä–∞, –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥ –∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏–º–µ–Ω–∏–µ –≤ –ù–∏–≤–Ω–æ–º.
–°–µ–ª–æ –ù–∏–≤–Ω–æ–µ, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∑–∞—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞.
–ü–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å–µ–ª–∞, –ø–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞, –ø–æ —Ä—è–¥–æ–≤—ã–º –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º –∏ –ø—Ä–∏—Ö–æ-
–∂–∞–Ω–∞–º —ç—Ç–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω —Å—Ç–∞—Ä–∞–Ω–∏—è–º–∏ –í.–§. –í–µ–±–µ—Ä–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª, –∫–æ-
—Ç–æ—Ä—ã–π, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —Å–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º –æ—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ç—Å—è –≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é –∫–Ω–∏–≥—É.
–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —Ä–æ–¥–∞ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö –±—É–¥–µ—Ç –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞, –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è, —Ç–µ–º, –∫—Ç–æ –∑–∞–Ω–∏-
–º–∞–µ—Ç—Å—è –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏–µ–π, –∏ —Ç–µ–º, –∫—Ç–æ —Å–∫–≤–æ–∑—å –ø—Ä–∏–∑–º—É –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Ä–æ–¥–∞ —Å–º–æ–∂–µ—Ç —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å
–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –∂–µ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–ª–∞ –º–æ–∂–µ—Ç –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞—Ç—å –∫—Ä–∞–µ–≤–µ–¥–æ–≤
–ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω—ã, –Ω–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –≤—ã–∑–æ–≤–µ—Ç –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–æ —É —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ-
–≥–∏–∏ –∏ –≥–µ—Ä–∞–ª—å–¥–∏–∫–∏.
–ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É, –¥–∞–±—ã –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–≥—Ä—É–∂–∞—Ç—å –∫–Ω–∏–≥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∏ —Ç–∞–∫ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞—Å—å –Ω–µ –º–∞-
–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π, –±—ã–ª–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–∏—Ç—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é —Ä–æ–¥–∞ –æ—Ç –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å–µ–ª–∞.
***
–ï—â—ë –æ–¥–∏–Ω –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —Ä–∞–∑–¥–µ–ª —ç—Ç–æ–π –∫–Ω–∏–≥–∏ –Ω–æ—Å–∏—Ç –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ ¬´–°–µ–º–µ–π–Ω—ã–π –∞—Ä—Ö–∏–≤:
люди и документы». В нём собраны фотографии, не вошедшие по каким-либо
–ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∞–º –≤ –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫—É—é —á–∞—Å—Ç—å, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∞—Ä—Ç–µ—Ñ–∞–∫—Ç—ã –∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü—ã
–∞—Ä—Ö–∏–≤–Ω—ã—Ö –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤.
Завершает книгу объёмный раздел «Приложения»: это и сочинения самих Ли-
—à–∏–Ω—ã—Ö (–æ—Ç —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–π, –æ—á–µ—Ä–∫–æ–≤ –∏ –ø–∏—Å–µ–º –¥–æ –º–µ–º—É–∞—Ä–æ–≤), —ç—Ç–æ –∏ —Å–æ—á–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –æ –õ–∏-
—à–∏–Ω—ã—Ö (–≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –æ –Ω–∏—Ö —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –∏–∑
которых важнейшие – очерки В.Ф. Вебера).
Эмоциональные «Приложения», равно как и фотографии из «Семейного ар-
хива», призваны несколько «оживить» ту скупую информацию, которая состав-
–ª—è–µ—Ç –æ—Å–Ω–æ–≤—É –∫–Ω–∏–≥–∏.
***
–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –Ω–µ–ª—å–∑—è –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –∏ –æ –ª—é–¥—è—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –º–Ω–æ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ,
—á—Ç–æ–±—ã —ç—Ç–∞ –∫–Ω–∏–≥–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å.
–ê–≤—Ç–æ—Ä-—Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å –∏ –µ–≥–æ —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Å–æ–∞–≤—Ç–æ—Ä, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, —Å–æ–±—Ä–∞–≤—à–∏–π –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å-
–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–æ–≤ –ø–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Ä–æ–¥–∞, –í.–§. –í–µ–±–µ—Ä, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—Ä—è–º–æ–π –ø–æ—Ç–æ–º–æ–∫ –ø–æ-
—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ —Ä–æ–¥–æ–≤–æ–≥–æ –∏–º–µ–Ω–∏—è –≤ —Å–µ–ª–µ –ù–∏–≤–Ω–æ–º (–Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ) –ù.–ê. –õ–∏—à–∏–Ω
–≤—ã—Ä–∞–∂–∞—é—Ç —Å–≤–æ—é –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–º, –∫—Ç–æ –≤ —Ç–æ–π –∏–ª–∏ –∏–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ —Å–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª
—Å–±–æ—Ä—É –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–∞ –∏–ª–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é –ø–æ–º–æ—â—å –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã —ç—Ç–∞ –∫–Ω–∏–≥–∞ –≤—ã—à–ª–∞
–≤ —Å–≤–µ—Ç. –í–æ—Ç –∏—Ö –∏–º–µ–Ω–∞:
- 1. –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∏—á (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);
- 2. –ë–∞—Ö—Ç–∏–Ω–∞ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–Ω–∞ (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 3. –ë–µ–ª–∏–∫–æ–≤ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ï–º–µ–ª—å—è–Ω–æ–≤–∏—á (–°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥);
- 4. –ë–∏–±–∏–∫–æ–≤ –í–∞–ª–µ—Ä–∏–π –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 5. –ë—É–ª—å–±–æ–Ω—é–∫ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á (–ö–∏–µ–≤);
- 6. –í–µ–±–µ—Ä –õ–∞—Ä–∏—Å–∞ –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 7. –í–µ–±–µ—Ä –≠—Ä–∏–∫–∞ –ö—É—Ä—Ç–æ–≤–Ω–∞ (–¢–∞–ª–ª–∏–Ω, –≠—Å—Ç–æ–Ω–∏—è);
- 8. –î—É–¥–∏–Ω –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (–õ—É–≥–∞–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª., –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –õ—É—á);
- 9. –î—É–¥–∏–Ω–∞ –¢–∞—Ç—å—è–Ω–∞ –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–Ω–∞;
- 10. –ó–∞–π—Ü–µ–≤ –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞, –ú–≥–ª–∏–Ω);
- 11. –ò–æ–Ω–∫–∏–Ω –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –°–µ–º–µ–Ω–æ–≤–∏—á (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);
- 12. –ö–∞—á—É—Ä –ü–∞–≤–µ–ª –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 13. –ö–æ–∑–∏–Ω–∞ –¢–∞–º–∞—Ä–∞ –ü–∞–≤–ª–æ–≤–Ω–∞ (–°—É—Ä–∞–∂);
- 14. –ö–æ–º–ª–µ–≤–∞ –ï—Ñ—Ä–æ—Å–∏–Ω—å—è –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–Ω–∞ (—Å. –ù–∏–≤–Ω–æ–µ, –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–∏–π —Ä-–Ω, –ë—Ä—è–Ω—Å–∫);
- 15. –õ–∏—à–∏–Ω –ë–æ—Ä–∏—Å –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 16. –õ–∏—à–∏–Ω –û–ª–µ–≥ –í—Å–µ–≤–æ–ª–æ–¥–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 17. –õ–∏—à–∏–Ω –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –í–∏—Ç–∞–ª—å–µ–≤–∏—á (–í–æ—Ä–æ–Ω–µ–∂);
- 18. –õ–æ–º–∞–∫–æ –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–π –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞, –ú–≥–ª–∏–Ω);
- 19. –õ—É–∫—å—è–Ω–æ–≤ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ê–Ω–∞—Ç–æ–ª—å–µ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 20. –ú–∞–ª—ã—à–∫–æ-–ë–µ—Ä–µ–∑–æ–≤—Å–∫–∞—è –ï–ª–µ–Ω–∞ –ï–≤–≥–µ–Ω—å–µ–≤–Ω–∞ (–ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤, –ö–∏–µ–≤);
- 21. –ú–∞—Ä–∫–æ–≤–∞ –ò—Ä–∏–Ω–∞ –ê–ª—å–±–µ—Ä—Ç–æ–≤–Ω–∞ (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 22. –ú–∞—Ä—å–∏–Ω –ú–∞–∫—Å–∏–º (–°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥);
- 23. –ú–µ—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏–π –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –ê–Ω–∞—Ç–æ–ª—å–µ–≤–∏—á (–ú–∏–Ω—Å–∫);
- 24. –ú–∏—Ä–æ—à–Ω–∏—á–µ–Ω–∫–æ (–õ–∏—à–∏–Ω–∞) –ê–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –î–º–∏—Ç—Ä–∏–µ–≤–Ω–∞ (–ú—É—Ä–º–∞–Ω—Å–∫);
- 25. –ù–µ—á–∞–µ–≤ –í–∞—Å–∏–ª–∏–π –õ–µ–æ–Ω–∏–¥–æ–≤–∏—á (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);
- 26. –ù–µ—á–∞–µ–≤ –õ–µ–æ–Ω–∏–¥ –§–µ–¥–æ—Ä–æ–≤–∏—á (—Å. –ù–∏–≤–Ω–æ–µ, –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–∏–π —Ä-–Ω, –ë—Ä—è–Ω—Å–∫);
- 27. –ù–∏–∫—É–ª–∏–Ω–∞ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);
- 28. –ü–∏–∫–∏–Ω–∞ –ì–∞–ª–∏–Ω–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–°—É—Ä–∞–∂);
- 29. –ü–æ–Ω–æ–º–∞—Ä–µ–≤–∞ –ï–ª–µ–Ω–∞ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤, –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∞);
- 30. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–µ–Ω –ï–ª–µ–Ω–∞ (–ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤);
- 31. –°–∞–ø–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –°–µ—Ä–≥–µ–π –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 32. –§–∞—Ä–∞–æ–Ω –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á, –ø—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ–π (–°—É—Ä–∞–∂);
- 33. –§—Ä–æ–ª–æ–≤ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);
- 34. –ß–µ–ø–ª—è–Ω—Å–∫–∞—è –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);
35. –®–µ—Ä—Å—Ç—é–∫ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞
–ó–∞–∫–∞–∑–∞—Ç—å –∫–Ω–∏–≥—É –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ —Å—Å—ã–ª–∫–µ - http://petergen.com/shop/18476o.shtml
–§–∏–ª—å–º "–°–µ–ª–æ –õ—è–ª–∏—á–∏ - –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è" –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –ø–æ –Ω–∏–∂–µ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–π —Å—Å—ã–ª–∫–µ:
–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –∏ –¥–≤–æ—Ä–µ—Ü –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≤ –ü–æ—á–µ–ø–µ
–û–¥–Ω–æ –∏–∑ –Ω–∞–∏–ª—É—á—à–∏—Ö –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–π –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞ –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≤ –ü–æ—á–µ–ø–µ, –±—ã–ª–æ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–æ –ì–æ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∞–µ–≤—ã–º –§. –§. –≤ –µ–≥–æ –∫–Ω–∏–≥–µ –î–≤–æ—Ä—Ü—ã –∏ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –Æ–≥–∞. –î–≤–æ—Ä–µ—Ü, –∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, —Å–≥–æ—Ä–µ–ª –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –í–µ–ª–∏–∫–æ–π –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã.
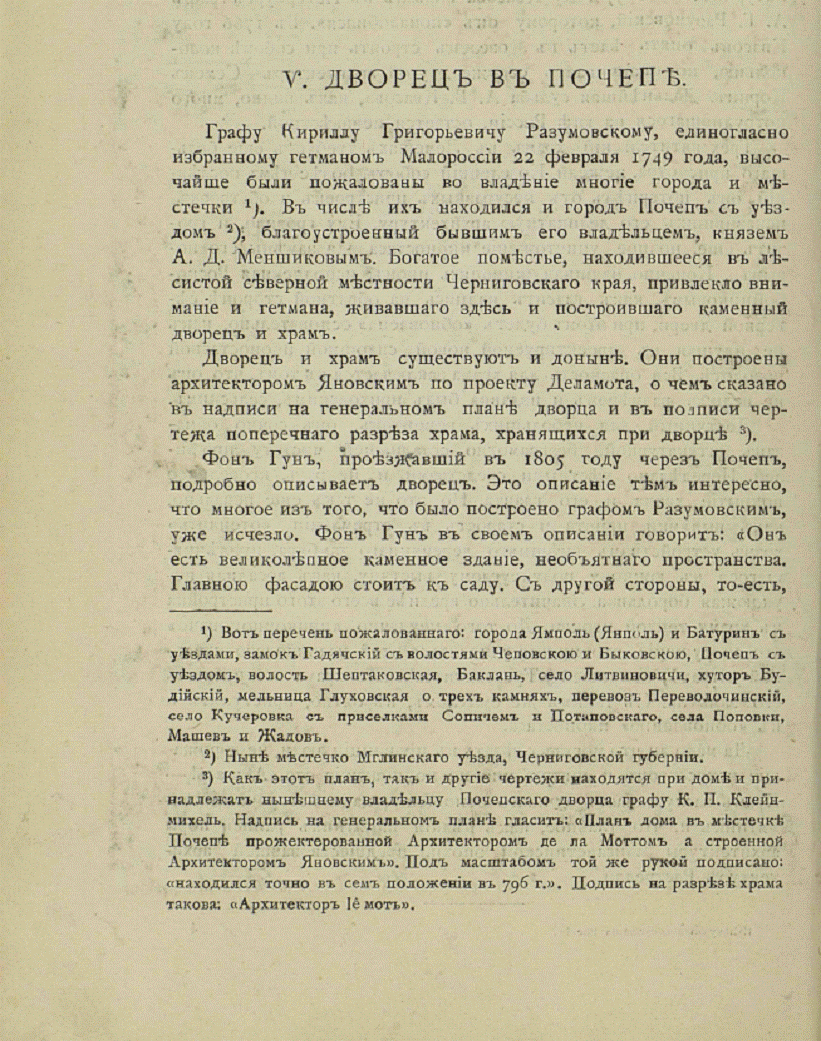 |
 |
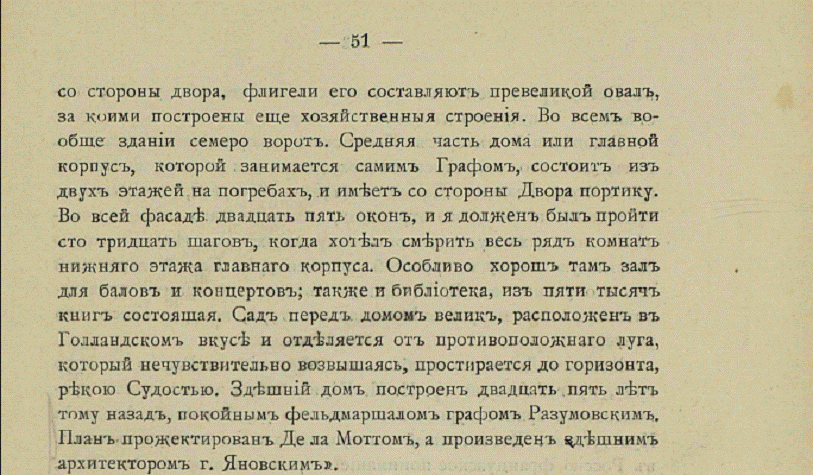 |
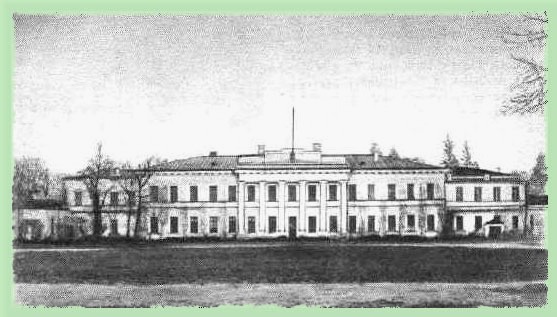 |
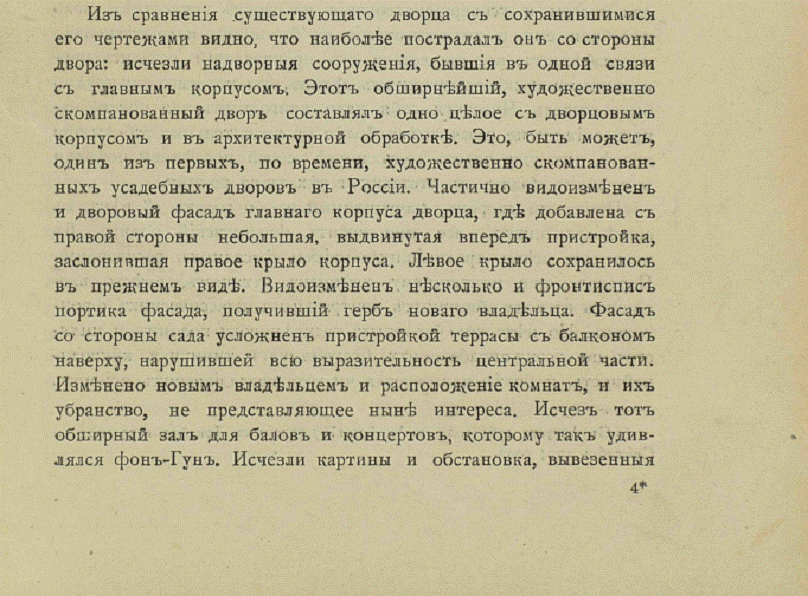 |
 |
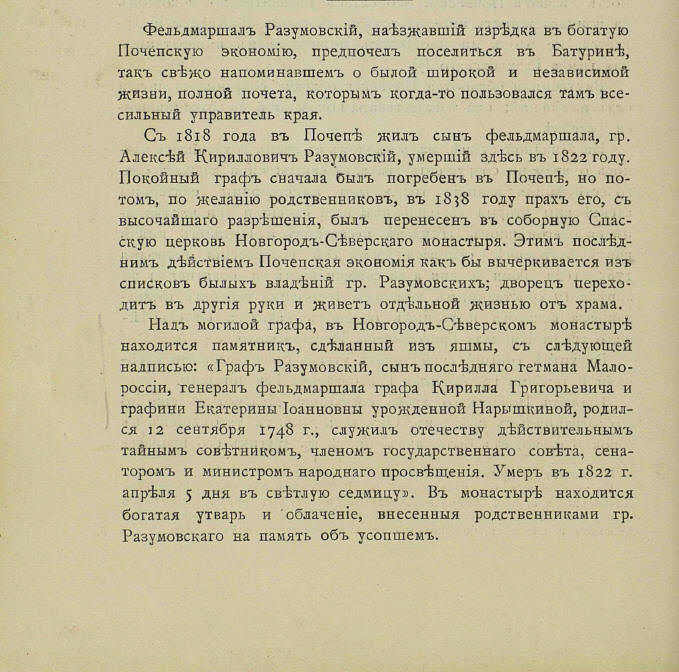 |
–£–°–ê–î–¨–ë–ê –ê.–ö. –¢–û–õ–°–¢–û–ì–û –≤ –ö–Ý–ê–°–ù–û–ú –Ý–û–ì–ï
–Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç —Å. –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥ –Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ–º –Ω–∏–∑–∫–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä. –Ý–æ–∂–æ–∫ (–ø—Ä–∏—Ç–æ–∫ —Ä. –°—É–¥–æ—Å—Ç—å). –û—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∞ –≤ —Å–µ—Ä. 18 –≤. –≥—Ä–∞—Ñ–æ–º –ö.–ì. –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–º (1728-1803) -–≥–µ—Ç–º–∞–Ω–æ–º, –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª-—Ñ–µ–ª—å–¥–º–∞—Ä—à–∞–ª–æ–º, –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–π –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏ –Ω–∞—É–∫; —É–Ω–∞—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∞ –µ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–º —Å—ã–Ω–æ–º –ê.–ö. –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–º (1748-1822) - –≤–∏—Ü–µ-–ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –ë–∏–±–ª–µ–π—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞, –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–æ–º –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–∏—è (1810-16). –° 1822 –≥. –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∞ –ê.–ê. –ü–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–º—É (1787-1836) - –≤–Ω–µ–±—Ä–∞—á–Ω–æ–º—É —Å—ã–Ω—É –ê.–ö. –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫—É –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã 1812 –≥. –∏ –∑–∞–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω—ã—Ö –ø–æ—Ö–æ–¥–æ–≤, —á–ª–µ–Ω—É –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏, –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—é, –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–≤—à–µ–º—É –ø–æ–¥ –ø—Å–µ–≤–¥–æ–Ω–∏–º–æ–º –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∏–π –ü–æ–≥–æ—Ä–µ–ª—å—Å–∫–∏–π. –í 1836 –≥. –ê.–ê. –ü–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è, –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –≤—Å–µ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏—è –ø–ª–µ–º—è–Ω–Ω–∏–∫—É, –ê–ª–µ–∫—Å–µ—é –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á—É –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–º—É, –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–º—É —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º—É –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—é.
–ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π (1817-1875) —Å—á–∏—Ç–∞–ª —É—Å–∞–¥—å–±—É —Å–≤–æ–µ–π –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω–æ–π —Ä–æ–¥–∏–Ω–æ–π. –ú–∞—Ç—å –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–æ—Å–ª–µ –µ–≥–æ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –º—É–∂–∞ –∏ —É–µ—Ö–∞–ª–∞ –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–µ –±—Ä–∞—Ç–∞ –ü–æ–≥–æ—Ä–µ–ª—å—Ü—ã, –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥. –ê.–ê. –ü–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å—Ç–∞–ª –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–º –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º —É—á–∏—Ç–µ–ª–µ–º –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞. –í–º–µ—Å—Ç–µ –æ–Ω–∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ —Ä—è–¥–æ–º —Å –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ—Ä–æ–≥—Å–∫–∏–º –ø–∞—Ä–∫–æ–º –±–µ—Ä–µ–∑–æ–≤—É—é —Ä–æ—â—É.
–û –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ —É—Å–∞–¥—å–±–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –ø–∏—Å–∞–ª: "–Ø –æ—á–µ–Ω—å —Ä–∞–Ω–æ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫ –∫ –º–µ—á—Ç–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–≤—à–µ–π—Å—è –≤ —è—Ä–∫–æ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—É—é —Å–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ –ø–æ—ç–∑–∏–∏. –ú–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ —ç—Ç–æ–º—É –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞, —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è –∂–∏–ª: –≤–æ–∑–¥—É—Ö –∏ –≤–∏–¥ –Ω–∞—à–∏—Ö –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –ª–µ—Å–æ–≤, —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω–æ –ª—é–±–∏–º—ã—Ö –º–Ω–æ—é, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ, –Ω–∞–ª–æ–∂–∏–≤—à–µ–µ –æ—Ç–ø–µ—á–∞—Ç–æ–∫ –Ω–∞ –º–æ–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –∏ –Ω–∞ –≤—Å—é –º–æ—é –∂–∏–∑–Ω—å –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤—à–µ–µ—Å—è –≤–æ –º–Ω–µ –∏ –ø–æ–Ω—ã–Ω–µ".
–í—ã–π–¥—è –≤ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∫—É –≤ 1861 –≥., –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∂–µ–Ω–æ–π –°–æ—Ñ—å–µ–π –ê–Ω–¥—Ä–µ–µ–≤–Ω–æ–π (—É—Ä–æ–∂–¥. –ë–∞—Ö–º–µ—Ç–µ–≤–æ–π) –∂–∏–ª –ø–æ–¥ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–æ–º –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –ü—É—Å—Ç—ã–Ω—å–∫–∞, –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –Ý–æ–≥–µ. –£—Å–∞–¥—å–±–∞ —Å –±–æ–≥–∞—Ç–æ–π –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–æ–π –∏ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–∞–ª–µ—Ä–µ–µ–π —Å—Ç–∞–ª–∞ –ª—é–±–∏–º–æ–π –æ–±–∏—Ç–µ–ª—å—é –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è. –í –Ω–µ–π –±—ã–≤–∞–ª–∏ –Ø.–ü. –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–∏–π, –ê.–ê. –§–µ—Ç, –ò.–°. –¢—É—Ä–≥–µ–Ω–µ–≤ –∏ –¥—Ä.
–í 1860-–≥ –≥–≥. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π —Å–æ–∑–¥–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Ä–æ–º–∞–Ω "–ö–Ω—è–∑—å –°–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω—ã–π", –¥—Ä–∞–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ç—Ä–∏–ª–æ–≥–∏—é "–°–º–µ—Ä—Ç—å –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–≥–æ", "–¶–∞—Ä—å –§–µ–¥–æ—Ä –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ–≤–∏—á", "–¶–∞—Ä—å –ë–æ—Ä–∏—Å", –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–ª —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫ —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤. –í 1873 –≥. –µ–≥–æ –∏–∑–±—Ä–∞–ª–∏ —á–ª–µ–Ω–æ–º-–∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–π –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏ –Ω–∞—É–∫.
–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –≥–æ–¥—ã –∂–∏–∑–Ω–∏ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å —Ç—è–∂–µ–ª–æ –±–æ–ª–µ–ª. –°–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è 28 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1875 –≥. –∏ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –Ý–æ–≥–µ. –¢–∞–º –∂–µ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–∞ –µ–≥–æ –∂–µ–Ω–∞.
–ì–µ–Ω.–ø–ª–∞–Ω —É—Å–∞–¥—å–±—ã
–ü—Ä–∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–º –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ —Ä–∞–∑–±–∏—Ç –ø–∞—Ä–∫ –∏ –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–∫, —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤—ã–¥–µ–ª—è–ª—Å—è –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π –û—Ö–æ—Ç–Ω–∏—á–∏–π –∑–∞–º–æ–∫ (—Å–≥–æ—Ä–µ–ª –≤ 1943 –≥., –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω –≤ 1990 –≥.), –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç—É –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ –í.–í. –Ý–∞—Å—Ç—Ä–µ–ª–ª–∏.
–ö –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å —Å–ª—É–∂–±—ã –∏ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤–æ 2-–π –ø–æ–ª. 18 –≤. –∏ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤ 1837 –≥.; –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫–∞ –ø–∞—Ä–∫–∞ —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –∏—Å–∫–∞–∂–µ–Ω–∞.
 –ü–∞—Ä–∫ - —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü —ç–ø–æ—Ö–∏ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞ 2-–π –ø–æ–ª. 18 - –Ω–∞—á. 19 –≤., —Å–æ—á–µ—Ç–∞—é—â–∏–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ —Å –ø–µ–π–∑–∞–∂–Ω–æ–π. –í –ø–ª–∞–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–π –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫ –ø–ª–æ—â–∞–¥—å—é –æ–∫. 9 –≥–∞. –ü—Ä–µ–∂–¥–µ –ø–∞—Ä–∫ –±—ã–ª –æ–±—Å–∞–∂–µ–Ω –∫—É—Å—Ç–∞–º–∏ —à–∏–ø–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –∏ –ª–∏–ø–∞–º–∏, –ø—Ä–∏—á–µ–º —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–µ–ª–∞ –≤ –¥–≤–∞ —Ä—è–¥–∞.
–ü–∞—Ä–∫ - —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü —ç–ø–æ—Ö–∏ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞ 2-–π –ø–æ–ª. 18 - –Ω–∞—á. 19 –≤., —Å–æ—á–µ—Ç–∞—é—â–∏–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ —Å –ø–µ–π–∑–∞–∂–Ω–æ–π. –í –ø–ª–∞–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–π –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫ –ø–ª–æ—â–∞–¥—å—é –æ–∫. 9 –≥–∞. –ü—Ä–µ–∂–¥–µ –ø–∞—Ä–∫ –±—ã–ª –æ–±—Å–∞–∂–µ–Ω –∫—É—Å—Ç–∞–º–∏ —à–∏–ø–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –∏ –ª–∏–ø–∞–º–∏, –ø—Ä–∏—á–µ–º —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–µ–ª–∞ –≤ –¥–≤–∞ —Ä—è–¥–∞.
–í —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –ø–∞—Ä–∫–∞ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç—Å—è –û—Ö–æ—Ç–Ω–∏—á–∏–π –∑–∞–º–æ–∫. –ü—Ä—è–º–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –±—ã–ª —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω —Ü–≤–µ—Ç–æ—á–Ω—ã–π –ø–∞—Ä—Ç–µ—Ä —Å–æ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –≥–µ–æ–º–µ—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–æ—Å–∞–¥–∫–æ–π, –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–æ–ª—å—Ü–µ–≤–æ–π –∞–ª–ª–µ–µ–π. –ù–∞ –µ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–µ –≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–∞–∑–±–∏—Ç –æ–±—ã—á–Ω—ã–π —Ü–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫.
–í –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ —ç—Ç–æ–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —Ä–∞–∑–º–µ—â–∞–ª–∞—Å—å —Ç–∞–∫–∂–µ –±–æ–ª—å—à–∞—è –±–µ—Å–µ–¥–∫–∞ –∏–∑ –ª–∏–ø, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å –∑–∞–ø–∞–¥–∞ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –∏–∑–æ–≥–Ω—É—Ç–∞—è –∞–ª–ª–µ—è, –∏–¥—É—â–∞—è –∑–∞—Ç–µ–º —Ç—Ä–µ–º—è –ª—É—á–∞–º–∏ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –ø–∞—Ä–∫–∞ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞ –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º –ø—Ä–µ–∂–Ω—é—é, –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–Ω–æ-–ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç–Ω—É—é –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫—É: —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –≤–∏–¥—ã —Å –≥—Ä—É–ø–ø–∞–º–∏ –∑–µ–ª–µ–Ω–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ –æ—á–µ—Ä—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–ª—è–Ω —á–µ—Ä–µ–¥—É—é—Ç—Å—è —Å –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏ –Ω–∞ –æ–ø—É—à–∫–∞—Ö.
–ü—Ä—è–º–∞—è –∞–ª–ª–µ—è –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–∫–∞–µ—Ç –ø–∞—Ä–∫ —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–∞ –Ω–∞ —é–≥, –≤—ã—Ö–æ–¥—è –∫ –ø–æ–π–º–µ —Ä. –Ý–æ–∂–æ–∫; –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É –æ—Ç –∑–∞–º–∫–∞ –µ–µ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–π –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥ –∫ –¥–æ–º—É. –ï—â–µ –æ–¥–Ω–∞, –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∞—è –∞–ª–ª–µ—è –∏–¥–µ—Ç –æ—Ç –∑–∞–º–∫–∞ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥, –ø–æ –≥—Ä–µ–±–Ω—é –ø–ª–æ—Ç–∏–Ω—ã –∏ –∑–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã –ø–∞—Ä–∫–∞, –≥–¥–µ, –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–∫–∞—è —Ä–µ—á–∫—É, –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É.
–í –∞–ª–ª–µ—è—Ö –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–µ—Ç —Ä—è–¥–æ–≤–∞—è –ø–æ—Å–∞–¥–∫–∞ –ª–∏–ø. –í —Ä–æ—â–∞—Ö –∏ –ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç–Ω—ã—Ö –≥—Ä—É–ø–ø–∞—Ö —Ä–∞—Å—Ç—É—Ç –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∫–ª–µ–Ω –∏ –ª–∏–ø–∞, –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—é—Ç—Å—è —Ç–∞–∫–∂–µ —Ç–µ–º–Ω—ã–π —è—Å–µ–Ω—å, –±–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã–π —Ç–æ–ø–æ–ª—å, —á–µ—Ä–Ω–∞—è –æ–ª—å—Ö–∞, –µ–ª—å, —Å–æ—Å–Ω–∞, –æ—Å–æ–∫–æ—Ä—å, –ª–∏—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—Ü–∞, –∏–ª—å–º, —á–µ—Ä–µ–º—É—Ö–∞, —Ä—è–±–∏–Ω–∞, –±—É–∑–∏–Ω–∞, –ª–µ—Å–Ω–æ–π –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫, —à–∏–ø–æ–≤–Ω–∏–∫, –∞ —É –ø–æ–π–º—ã - —á–µ—Ä–Ω–æ—Ç–∞–ª –∏ –∏–≤–∞.

–§–ª–∏–≥–µ–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—É—é –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—É—é —Å–ª—É–∂–µ–±–Ω—É—é –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫—É, –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—â—É—é—Å—è –∫–æ 2-–π –ø–æ–ª. 19 –≤. –û–¥–Ω–æ—ç—Ç–∞–∂–Ω–æ–µ –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–æ–µ –≤ –ø–ª–∞–Ω–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ –ø–æ–¥ –≤–∞–ª—å–º–æ–≤–æ–π –∫—Ä–æ–≤–ª–µ–π. –°—Ç–µ–Ω—ã —Ä—É–±–ª–µ–Ω—ã –∏–∑ –±—Ä–µ–≤–µ–Ω –±–µ–∑ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞ –∏ –æ–±—à–∏—Ç—ã —Ç–µ—Å–æ–º, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω–æ–µ. –§–∞—Å–∞–¥—ã –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑–∞–Ω—ã –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º–∏ –æ–∫–Ω–∞–º–∏ —Å —á–∞—Å—Ç—ã–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª–µ—Ç–∞–º–∏. –ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –ø—Ä–æ–¥–æ–ª—å–Ω–æ–º —Ñ–∞—Å–∞–¥–µ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω —Ç–∞–º–±—É—Ä, –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–º - –∑–∞—Å—Ç–µ–∫–ª–µ–Ω–Ω–∞—è —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞. –í—Ö–æ–¥—ã —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω—ã –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–æ–º, –ø–æ –æ–±–µ–∏–º —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω—ã –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã.
–í–æ —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ –æ–±—ã—á–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –±—Ä–∞—Ç—å—è –ñ–µ–º—á—É–∂–Ω–∏–∫–æ–≤—ã. –ö–∞–±–∏–Ω–µ—Ç –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π —É–≥–ª–æ–≤–æ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ —Å–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç –≤—Ö–æ–¥–∞ —Å –æ–∫–Ω–∞–º–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ø–∞—Ä–∫–∞.
–° 1960-—Ö –≥–≥. –≤ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–µ –∏–≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –Ý–æ–≥–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–µ—Å—Ç–≤–∞. –í–æ —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ –≤ 1967 –≥. –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç –º—É–∑–µ–π –ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ. –í —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –ø–∞—Ä–∫–∞ –≤ 1972 –≥. —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω –±—é—Å—Ç –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è. –£—Å–∞–¥—å–±–∞ –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥ - –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π —Å –∂–∏–∑–Ω—å—é –∏ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ.
–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫:
–°–≤–æ–¥ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –∏ –º–æ–Ω—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∏—Å—Å–∫—É—Å—Ç–≤–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å. –ú. –ù–∞—É–∫–∞ 1997.
http://history.region32.ru/?id=10&ido=346&act=view&p=0&obl=1&re=21&obj=&sub=&tobj=
http://history.region32.ru/?id=10&ido=345&act=view&p=0&obl=1&re=21&obj=&sub=&tobj=
–£–°–ê–î–¨–ë–ê –ò–°–ö–Ý–ò–¶–ö–ò–• –≤ —Å–µ–ª–µ –î–ê–õ–ò–°–ò–ß–ò
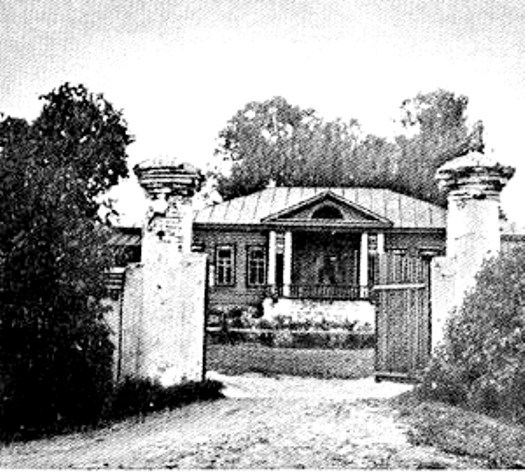 –Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ —Å–µ–ª–∞. –°–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∏–∑ –¥–æ–º–∞, –¥–≤—É—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ–π –∏ —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤–æ–≥–æ —Å–∞–¥–∞. –ü–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–≤–æ—Ä—è–Ω –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏—Ö, —Ä–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤—ã–¥–≤–∏–Ω—É–ª —Ü–µ–ª—É—é –ø–ª–µ—è–¥—É –≤–∏–¥–Ω—ã—Ö –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –Ý–µ–¥–∫–∏–π –Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –º–µ–ª–∫–æ–ø–æ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã, –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω–æ–π –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –≤ —Å—Ç–∏–ª–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞. –ü–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–æ—á–Ω–∞—è —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–∞ —É—Å–∞–¥—å–±—ã –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ç–∏–ø–∏—á–Ω–∞ –¥–ª—è —Å–≤–æ–µ–π —ç–ø–æ—Ö–∏. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫, –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–Ω—ã–π –∫ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ. –¶–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –≥–æ—Å–ø–æ–¥—Å–∫–∏–π –¥–æ–º, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –¥–≤–æ—Ä–∞ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ. –î–≤–∞ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª—è, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –¥–æ–º–∞ –ø–µ—Ä–ø–µ–Ω–¥–∏–∫—É–ª—è—Ä–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ, –æ–±—Ä–∞–∑—É—é—Ç –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–π –¥–≤–æ—Ä. –ó–∞ –¥–æ–º–æ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –æ–±—à–∏—Ä–Ω—ã–π —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤—ã–π —Å–∞–¥. –í—Å—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–∞ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω—ã–º –∑–∞–±–æ—Ä–æ–º.
–Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ —Å–µ–ª–∞. –°–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∏–∑ –¥–æ–º–∞, –¥–≤—É—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ–π –∏ —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤–æ–≥–æ —Å–∞–¥–∞. –ü–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–≤–æ—Ä—è–Ω –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏—Ö, —Ä–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤—ã–¥–≤–∏–Ω—É–ª —Ü–µ–ª—É—é –ø–ª–µ—è–¥—É –≤–∏–¥–Ω—ã—Ö –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –Ý–µ–¥–∫–∏–π –Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –º–µ–ª–∫–æ–ø–æ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã, –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω–æ–π –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –≤ —Å—Ç–∏–ª–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞. –ü–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–æ—á–Ω–∞—è —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–∞ —É—Å–∞–¥—å–±—ã –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ç–∏–ø–∏—á–Ω–∞ –¥–ª—è —Å–≤–æ–µ–π —ç–ø–æ—Ö–∏. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫, –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–Ω—ã–π –∫ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ. –¶–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –≥–æ—Å–ø–æ–¥—Å–∫–∏–π –¥–æ–º, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –¥–≤–æ—Ä–∞ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ. –î–≤–∞ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª—è, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –¥–æ–º–∞ –ø–µ—Ä–ø–µ–Ω–¥–∏–∫—É–ª—è—Ä–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ, –æ–±—Ä–∞–∑—É—é—Ç –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–π –¥–≤–æ—Ä. –ó–∞ –¥–æ–º–æ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –æ–±—à–∏—Ä–Ω—ã–π —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤—ã–π —Å–∞–¥. –í—Å—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–∞ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω—ã–º –∑–∞–±–æ—Ä–æ–º.
–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏—Ö.
–ì–µ–Ω–ø–ª–∞–Ω:
1 –¥–æ–º;
2 —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–∏;
3 –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ —Å –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞–º–∏ –æ–≥—Ä–∞–¥—ã;
4 —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ –∞–ª–ª–µ–∏.
–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫: –°–≤–æ–¥ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –∏ –º–æ–Ω—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∏—Å—Å–∫—É—Å—Ç–≤–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å. –ú. –ù–∞—É–∫–∞ 1997.
http://history.region32.ru/?id=50&ido=413&act=view
–û—Ç—Ç–æ —Ñ–æ–Ω –ì—É–Ω.
–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –≥—Ä–∞—Ñ–æ–≤ –ì—É–¥–æ–≤–∏—á–µ–π –≤ –ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω–∫–∞—Ö
___"–í—á–µ—Ä–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª —è –∫ –±–æ–ª—å–Ω–æ–º—É –≥. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª-–º–∞–π–æ—Ä—É –∏ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä—É –ì—É–¥–æ–≤–∏—á—É, –∏ —Å–µ–≥–æ –¥–Ω—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –ü–æ—á–µ–ø. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ —Ç—É–¥–∞ –Ω–µ –≤–µ—Å—å–º–∞ –ø—Ä–∏–º–∞–Ω—á–∏–≤–∞. –ü–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —è –ø–æ –≤—Å–µ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–∞–ª –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏, –∞ –≤–∏–¥–µ–ª —Ç–æ–∫–º–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –±–µ–¥–Ω—ã—Ö –∂–∏–¥–æ–≤—Å–∫–∏—Ö —à–∏–Ω–∫–æ–≤. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –∂, —á–µ–º –±–ª–∏–∂–µ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–∂–∞–µ—à—å –∫ –ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω–∫–∞–º, —Ç–µ–º –±–æ–ª—å—à–µ –ø—Ä–∏–º–µ—Ç–Ω—ã–º —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –±–ª–∞–≥–æ—Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ, –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ –∏ –≤–∫—É—Å –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ —Ç–∞–º–æ—à–Ω–µ–≥–æ —Å–∞–¥–∞. –° –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏—é –≤–æ–∑–≤—ã—à–∞—é—Ç—Å—è –ø–æ–∑–∞–¥–∏ –ø–ª–æ–¥–æ–Ω–æ—Å–Ω–µ–π—à–∏—Ö –ø–æ–ª–µ–π, –∑–∞—Å–µ—è–Ω–Ω—ã—Ö –≥—Ä–µ—á–µ—é, –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –ª–µ—Å–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ —á–∏—Å—Ç–æ–≥–æ –±–µ—Ä–µ–∑–Ω—è–∫–∞. –í –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –±–ª–∏–∑ —Å–∞–º–æ–π –±–æ–ª—å—à–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –≤–∏–¥–Ω–æ –∫–∞–∫ –±—ã —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –æ–∑–µ—Ä–æ —Å–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º –Ω–∞ –Ω–µ–º –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ–≤, —Ç–æ —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö –º—Ä–∞–º–æ—Ä–Ω—ã–º–∏ —É—Ä–Ω–∞–º–∏, —Ç–æ –∑–∞—Å–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ —Ä–æ—â–∏—Ü–∞–º–∏, –≥—Ä—É–ø–ø–∞–º–∏, –±–æ—Å–∫–µ—Ç–∞–º–∏, –∫–ª—É–º–±–∞–º–∏ –∏ —Ü–≤–µ—Ç–∞–º–∏. –û–∫–æ–ª–æ –Ω–∏—Ö –ø–ª–∞–≤–∞—é—Ç –≥–æ—Ä–¥—ã–µ –ª–µ–±–µ–¥–∏, –≤–æ—Å–ø–µ–≤–∞—è –ê—Ä–∫–∞–¥—Å–∫—É—é –ø–µ—Å–Ω—å —Å–≤–æ—é, –∏ –≥—É—Å–∏ —Å –º—ã—Å–∞ –î–æ–±—Ä–æ–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã. –ß–µ–º –¥–æ–ª–µ –∏–¥–µ—à—å, —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–∏ –≤—Å–µ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞. –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∞ –∑–¥–µ—Å—å –≤ –º–µ—Å—Ç–µ, –æ–∫–æ–ª–æ –æ—Å—å–º–∏ –≤–µ—Ä—Å—Ç –≤ –æ–∫—Ä—É–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –¥–µ—Å—è—Ç–∏–Ω –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è –∏–º–µ—é—â–µ–º, –≤—Å—ë —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–æ –ø–æ–¥—Ä–∞–∂–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–æ–º. –û–Ω–∞ –∏–∑–±—Ä–∞–ª–∞ —Å–µ–±–µ –≤ —Å–∞–¥–æ–≤–Ω–∏–∫–∏ —Å–∞–º–æ–≥–æ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ —Å–µ–≥–æ –ø—Ä—è–º–æ –®–≤–µ–π—Ü–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–æ–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è; –∏–±–æ –æ–Ω, –∫–∞–∫ –¥—Ä—É–≥ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã, –∫–∞–∫ –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª—å –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –∏ –≤–æ–∑–≤—ã—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ, —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è–µ—Ç –≤ —Å–µ–±–µ —Å –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º –ø–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ–º –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π –≤–∫—É—Å, –¥–∞–±—ã —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ—é —Ä—É–∫–æ—é –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞—Ç—É—Ä–µ –∏ –ø—Ä–∏–¥–∞–≤–∞—Ç—å –µ–π –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—â–µ–µ –ø–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏. –ù–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–∞—è —Ä–∞–∑–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–æ–ª–∏–Ω –∏ –≥–æ—Ä, –ª–µ—Å–æ–≤, –ª—É–≥–æ–≤ –∏ –ø–æ–ª–µ–π, –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≤–∏–¥–æ–≤ –∏ –≤ –∑–∞–¥—É–º—á–∏–≤–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—â–∏—Ö –¥–æ—Ä–æ–∂–µ–∫, –≤–æ–¥–æ–ø–∞–¥–æ–≤, –æ–∑–µ—Ä, —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤ –∏ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–π —Å–µ–≤–µ—Ä–æ–∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö, —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–π —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –∏ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ —Ç–æ–º—É –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–≥–æ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫—É –Ω–µ—É—Ç–æ–º–∏–º–æ–µ —É–ø—Ä–∞–∂–Ω–µ–Ω–∏–µ; –∂–∞–ª—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–º—É —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫—É –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —É–¥–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ–∂–∏—Ç—å –¥–æ–ª–≥–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –≤ —Ç–∞–∫–æ–º –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–Ω–æ–º —É–≥–æ–ª–∫—É, –¥–∞–±—ã –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –ª—É—á—à–µ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –≤—Å—ë –≤ –Ω—ë–º –∑–∞–∫–ª—é—á–∞—é—â–µ–µ—Å—è. –Ø –¥—É–º–∞—é, —á—Ç–æ –≤–µ—Å–Ω–æ—é –∏ –≤ –ª—É—á—à–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –ª–µ—Ç–∞, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Å—å –∑–¥–µ—Å—å, –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∑–∞—Ö–æ—á–µ—Ç –±—ã—Ç—å –≤ —é–∂–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã, —Ö–æ—Ç—è –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ —Å—É—Ä–æ–≤–æ—Å—Ç—å –∑–∏–º—ã –Ω–∞ –°–µ–≤–µ—Ä–µ –Ω–µ –≤–µ—Å—å–º–∞ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–∞. –ù–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å —É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç—å –æ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –ö–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–º –¥–æ–º–∏–∫–µ, –≤ —Å–∞–¥—É –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤ –æ—Å–æ–±–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Ç–æ—é –≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏—é –∏ —Ç–æ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏—é, —Å –∫–∞–∫–æ–≤—ã–º–∏ –≤—Å—ë –≤ –Ω—ë–º —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–Ω–æ–µ, –∑–∞–Ω—è—Ç–æ –æ—Ç –ö–∏—Ç–∞–π—Ü–æ–≤. –ó–¥–µ—Å—å –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Å–µ–±—è –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∫–∞–∂–¥–∞—è –¥–≤–µ—Ä—å, —Å–∞–º–∞—è –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–∞, –∫–∞–∂–¥–æ–µ —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–∏–µ, –¥–∞–∂–µ –∑–∞–º–∫–∏, –º–µ–±–µ–ª–∏, –æ–¥–Ω–∏–º —Å–ª–æ–≤–æ–º –≤—Å—ë, –∫–∞–∫ —Å –Ω–∞—Ä—É–∂–∏, —Ç–∞–∫ –∏ –∏–∑ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏. –í –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç –≤—Å–µ —Å—Ç–µ–Ω—ã –æ–±–ª–æ–∂–µ–Ω—ã –ª–∞–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ —Å –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–º –¥–æ—Å–∫–∞–º–∏, –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–∞—é—â–∏–º–∏ –∂–∏–∑–Ω—å –ö–æ–Ω—Ñ—É—Ü–∏—è. –í –¥—Ä—É–≥–æ–º —Å–∞–¥–æ–≤–æ–º –∂–µ —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–∞—è —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è –±–∞–Ω—è —Å –≤–∞–Ω–Ω–æ—é, –º–Ω–æ–≥–∏–º–∏ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞–º–∏ –∏ —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å–º–∏. –û—Ä–∞–Ω–∂–µ—Ä–µ–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–µ; –∂–∞–ª—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ—Ç –¥–ª—è –Ω–∏—Ö —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ —Å–∞–¥–æ–≤–Ω–∏–∫–∞. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –≤—Å—ë –æ—Ç–ª–∏—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ç—É—Ç –æ—Ç–º–µ–Ω–Ω—ã–º –ø–æ—Ä—è–¥–∫–æ–º –∏ –≤–æ –≤—Å–µ–º –∏—Å–ø—Ä–∞–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏—é. –ú—É–∑—ã–∫–∞ –∑–¥–µ—à–Ω—è—è, –∏–∑ —à–µ—Å—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–æ—Å—Ç–æ—è—â–∞—è –∏ –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥–Ω–æ –∏–≥—Ä–∞—é—â–∞—è, –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫–∂–µ —á–∞—Å—Ç—å –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–µ–π –ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö.
___–ù–µ–∫—Ç–æ, –∂–∏–≤—É—â–∏–π –≤ –ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω–∫–∞—Ö, –æ–±–µ—â–∞–ª –º–Ω–µ —Å–æ–æ–±—â–∏—Ç—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤–∏–¥–æ–≤ –∑–¥–µ—à–Ω–µ–≥–æ —Å–∞–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–Ω —Å–Ω—è—Ç—å –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–≤–∞–ª—Å—è, –∏ —è –±—É–¥—É –∏–º–µ—Ç—å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ —Å–æ–æ–±—â–∏—Ç—å –∏—Ö –∏ –≤–∞–º. (–ü–æ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –≥–æ–¥–∞ –∏ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–≤—à–∏—Ö –º–æ—Ä–æ–∑–æ–≤ –æ–Ω —É—Å–ø–µ–ª –æ–¥–Ω–∞–∫–æ–∂ —Å–Ω—è—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω –≤–∏–¥, –∞ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –∏ –Ω–∞ –±–∞–Ω—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∑–¥–µ—Å—å –∏ –ø—Ä–∏–ª–∞–≥–∞–µ—Ç—Å—è)
–û–≤—Ü–µ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –∑–¥–µ—Å—å –ø—Ä—è–º–æ –≤ —Ü–≤–µ—Ç—É—â–µ–º –∏ –≤ –Ω–∞–∏–ª—É—á—à–µ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏. –ß–∏—Å–ª–æ –æ–≤–µ—Ü –∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –®–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è —É–∂–µ –¥–æ —Ç—ã—Å—è—á–∏, –∏ –æ–Ω–µ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—Å—è —Å –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–∏–º —Ä–∞—á–µ–Ω–∏–µ–º –∏ –ø–æ–¥ –ø—Ä–∏–ª–µ–∂–Ω–µ–π—à–∏–º –Ω–∞–¥–∑–æ—Ä–æ–º. –ù–∞—á–∞–ª–æ —Å–µ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞, –ø—Ä—è–º–æ –∫ —á–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤ —Å–ª—É–∂–∞—â–µ–≥–æ –∏ –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—â–µ–≥–æ, —á—Ç–æ —Ç—Ä—É–¥–æ–º –∏ –ø–æ–ø–µ—á–µ–Ω–∏–µ–º –æ –±–ª–∞–≥–µ, –≤–æ –≤—Å—ë–º —É—Å–ø–µ—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ, –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º: –≤ 1793 –≥–æ–¥—É –≥. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Å—å –µ—â—ë –≤ —Å–ª—É–∂–±–µ —Å —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ–ª–∫–æ–º –≤ –±—ã–≤—à–µ–π –ü–æ–ª—å—à–µ, –¥–æ—Å—Ç–∞–ª —Ç–∞–º –ê–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏—Ö –°—É—Ñ—Ñ–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –º–µ–ª–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ —Ç–æ–Ω–∫–æ—à–µ—Ä—Å—Ç–Ω—ã—Ö –æ–≤–µ—Ü –∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –±—ã–≤ –ø—Ä–∏–≥–Ω–∞–Ω—ã —Å—é–¥–∞, —Ä–∞–∑–º–Ω–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å –¥–æ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞—Å—Ç–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –≤ 1797 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–π —Ñ–µ–ª—å–¥–º–∞—Ä—à–∞–ª –≥—Ä–∞—Ñ –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤—ã–ø–∏—Å–∞–ª –¥–ª—è —Å–µ–±—è –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –æ–≤–µ—Ü –∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ —Å —Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –æ–≤–µ—á—å–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–æ–≤ –∫–Ω—è–∑—è –õ–∏—Ö—Ç–µ–Ω—à—Ç–µ–π–Ω–∞, —á—Ç–æ –≤ –ê–≤—Å—Ç—Ä–∏–∏ –æ–∫–æ–ª–æ –¢—Ä–∏–µ—Å—Ç–∞, –∑–¥–µ—à–Ω–∏–µ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—ã (–ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω–∫–∏ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—Ç –¥–≤—É–º –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–∞–º, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ, –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞–º –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª –º–∞–π–æ—Ä–∞–º –∏ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∞–º –ú–∏—Ö–∞–π–ª–µ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á—É –∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–µ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á—É –ì—É–¥–æ–≤–∏—á–∞–º, –∫–æ–∏ –≤–ª–∞–¥–µ—é—Ç –≤—Å–µ–º —Å–≤–æ–∏–º –∏–º–µ–Ω–∏–µ–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ –∏ –Ω–µ—Ä–∞–∑–¥–µ–ª—å–Ω–æ) –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–∏–º —Å–ª—É—á–∞–µ–º, –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º–∏ –≤—ã–ø–∏—Å–∞–ª–∏ –¥–ª—è —Å–µ–±—è –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –æ–≤–µ—Ü –∏ –¥–≤—É—Ö –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤; –ø–æ–ª—É—á–∞ —Å–∏—Ö, —Ç–æ—Ç—á–∞—Å –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ –ê–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏—Ö –æ—Ç–¥–∞–ª–∏–ª–∏, –∞ —á–∞—Å—Ç—å –æ–≤–µ—Ü –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Å–ø—É—â–∞—Ç—å —Å –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–∞–º–∏; –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –∂–µ –æ–≤–µ—Ü –¥–ª—è —Ä–∞–∑–º–Ω–æ–∂–µ–Ω–∏—è —á–∏—Å—Ç–æ–≥–æ –®–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –æ—Å–æ–±–ª–∏–≤–æ. –ü–µ—Ä–≤—ã–µ —Ä–æ–¥–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –æ—Ç –°—É—Ñ—Ñ–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –æ–≤–µ—Ü –∏ –æ—Ç –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ —è—Ä–æ—á–∫–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—ã –≤ –∑–∞–≤–æ–¥–µ, –∞ –±–∞—Ä–∞—à–∫–∏ –æ—Ç–¥–∞–ª–µ–Ω—ã; —Å–∏–∏ –≤–Ω–æ–≤—å —Ä–æ–¥–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –∏–º–µ–ª–∏ —à–µ—Ä—Å—Ç—å —Ç–æ–Ω–µ, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ –∏—Ö –º–∞—Ç–µ—Ä—è—Ö; –Ω–æ —Ä–æ—Å—Ç–æ–º –∏ –≤—Å–µ–º–∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –±—ã–ª–∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –≤ –æ—Ç—Ü–æ–≤. –û—Ç —Å–∏—Ö –ø—Ä–∏–ø–ª–æ–¥ –±—ã–ª —É–∂–µ —Å –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ—é –®–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–π —à–µ—Ä—Å—Ç—å—é, –∞ —Ç–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∏ —Ä–∞–∑–≤–µ–ª—Å—è –∑–∞–≤–æ–¥, —Å—á–∏—Ç–∞—è –Ω—ã–Ω–µ –æ–¥–Ω–∏—Ö —Å–∏—Ö –æ—Ç –ê–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–µ–¥—à–∏—Ö –æ–≤–µ—Ü –º–∞—Ç–æ–∫ —Å —Å–µ–≥–æ – –ª–µ—Ç–Ω–∏–º–∏ —è—Ä–æ—á–∫–∞–º–∏ –¥–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ —Å–æ—Ç —à—Ç—É–∫. –ù–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–µ –∂–µ –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏–µ –∏–∑ –ê–≤—Å—Ç—Ä–∏–∏ –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤–µ–¥—É—Ç –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –µ—â—ë —Å–≤–æ–π —Ä–æ–¥ –æ—Å–æ–±–ª–∏–≤–æ, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å, –æ–≤—Ü—ã –æ—Ç –Ω–∏—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–µ–¥—à–∏–µ –æ—Ç–Ω—é–¥—å —Å —Ç–µ–º–∏ –Ω–µ —Å–º–µ—à–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è, –∏ –∏—Ö —á–∏—Å–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è —É–∂–µ –∑–∞ —Å—Ç–æ. –ë–∞—Ä–∞—à–∫–∞–º–∏ –æ—Ç —Å–∏—Ö —Ä–æ–¥—è—â–∏–º–∏—Å—è –ø–æ–ø–æ–ª–Ω—è–µ—Ç—Å—è –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –¥–ª—è —Ç—ã—Å—è—á–∏ –æ–≤–µ—Ü —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–ª–æ–Ω, –∏ —Å–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∏–∑ —à–µ—Å—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –ø—Ä–∏–ø—É—Å–∫–Ω—ã—Ö –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤, –Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞—è –±–∞—Ä–∞—à–∫–æ–≤, –∫–æ–∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –¥–ª—è —É–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤–ø—Ä–µ–¥—å –∏ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω—ã –∏–º–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—â–∏—Ö—Å—è –Ω–µ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–º–∏ –∫ –∑–∞–≤–æ–¥—É. –ü—Ä–∏ —Å–ø—É—Å–∫–µ –∏—Ö –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–µ—Ç—Å—è —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Ä–æ–¥—ã –∏—Ö, –∏–ª–∏ —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–∏ –Ω–µ —Å–º–µ—à–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å, –¥–ª—è —á–µ–≥–æ –≤ –∑–∞–≤–æ–¥–µ –∏ –ø–æ–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–π, –∫–∞–∫ –≤ –∫–ª–µ–≤–∞—Ö, —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–∞ –¥–≤–æ—Ä–∞—Ö.
___–ñ–∞–ª—å, –æ—á–µ–Ω—å –∂–∞–ª—å, —á—Ç–æ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫—É –ø–∞—Å—Ç–±–∏—â–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç, –∫–æ–∏ –∑–¥–µ—Å—å —Ä–æ–¥—è—â–∏–º—Å—è –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –∫–æ—Ä–º–æ–º –∏ —Å–≤–æ–∏–º –±–æ–ª—å—à–µ—é —á–∞—Å—Ç–∏—é –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–∫–∞—Ö –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –æ—Ç–º–µ–Ω–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏ –¥–ª—è –æ–≤–µ—Ü, –Ω–µ –º–æ–∂–Ω–æ –æ–Ω—ã—Ö —Ä–∞–∑–º–Ω–æ–∂–∞—Ç—å –¥–æ –±–æ–ª—å—à–µ–≥–æ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞, —á—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–æ—é, —á—Ç–æ –≥–≥. –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—ã –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω—ã –∑–∞–≤–µ—Å—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –∑–∞–≤–æ–¥ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º —Å–≤–æ—ë–º –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –≤–µ—Ä—Å—Ç–∞—Ö –≤–æ —Å—Ç–∞ –æ—Ç—Å—é–¥–∞, –∏ —Ç–∞–∫–∂–µ –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏. –¢–∞–∫–æ–≤–æ–π –∑–∞–≤–æ–¥ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –≤–µ—Å—å–º–∞ –≤–∞–∂–Ω—É—é –∏ –ø—Ä–∏–±—ã–ª—å–Ω—É—é —Å—Ç–∞—Ç—å—é –≤ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ, –∏–±–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –º–Ω–µ –æ—Ç –≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π, —á—Ç–æ –≤ –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–µ–º –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ—â—ë –∏ —á–∏—Å–ª–æ –º–∞—Ç–æ–∫ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞, –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–æ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –≤ –¥–æ—Ö–æ–¥–µ –æ–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–∏ —Ç—ã—Å—è—á —Ä—É–±–ª–µ–π, —á—Ç–æ –æ—Ç–Ω—é–¥—å –∏ –Ω–µ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –ø–æ—Å–∫–æ–ª–∏–∫—É –æ–¥–Ω–∏—Ö –±–∞—Ä–∞—à–∫–æ–≤ –ø—Ä–æ–¥–∞–Ω–æ –¥–≤—É—Ö —Å–æ—Ç, –∑–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –ø–æ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ —Ä—É–±–ª–µ–π, –∞ —à–µ—Ä—Å—Ç—å –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –º–µ–Ω–µ–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ø—è—Ç–∏ —Ä—É–±–ª–µ–π –∑–∞ –ø—É–¥ –Ω–µ –ø—Ä–æ–¥–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å. –í –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–º –≥–æ–¥—É –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–∞, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É –∏ —â—ë—Ç—ã –µ—â—ë –Ω–µ –æ–∫–æ–Ω—á–µ–Ω—ã, —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏ –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –µ—â—ë, —Å–∫–æ–ª—å –≤–µ–ª–∏–∫ –±—É–¥–µ—Ç –¥–æ—Ö–æ–¥. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –µ—Å–ª–∏ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –±–∞—Ä–∞—à–∫–∏ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ–¥–∞—é—Ç—Å—è, —Ç–æ –≤—Å—ë –æ–¥–Ω–∞–∫–æ–∂ —É–±—ã—Ç–∫—É –Ω–µ—Ç, –∏–±–æ –∏—Ö –≤—Å–µ—Ö –∑–∞ –∏–∑–ª–∏—à–µ—Å—Ç–≤–æ–º –æ—Å—Ç–∞—é—â–∏—Ö—Å—è –≤—ã–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç –∏ –æ—Ç—Å—ã–ª–∞—é—Ç –≤ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é, –≥–¥–µ —É —Å–∏—Ö –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–≤ –µ—Å—Ç—å –Ω–µ–ø–æ–¥–∞–ª—ë–∫—É –æ—Ç –î–Ω–µ–ø—Ä–∞ –æ–±—à–∏—Ä–Ω–æ–µ –∑–µ–º–ª—è–º–∏ –∏–º–µ–Ω–∏–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –æ–Ω–∏ –∏ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—Å—è. –í—ã–≥–æ–¥–∞ –æ—Ç —Å–µ–≥–æ —Ç–∞, —á—Ç–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ –∏—Ö –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ, –∞ —à–µ—Ä—Å—Ç–∏ –æ–Ω–∏ –¥–∞—é—Ç –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –±–æ–ª–µ–µ, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ –æ–≤—Ü—ã –∏ –±–∞—Ä–∞–Ω—ã. –û–¥–Ω–∞–∫–æ–∂–µ –≤—ã–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç –Ω–µ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, –∫–∞–∫ –ø–æ —É—á–∏–Ω–µ–Ω–∏–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –≤–µ–¥–æ–º–æ—Å—Ç–∏ –ø—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏–π –æ –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–µ, –¥–∞–±—ã –∂–µ–ª–∞—é—â–∏–µ –∏—Ö –∏–º–µ—Ç—å, –º–æ–≥–ª–∏ —Å–µ–±–µ –∫—É–ø–∏—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ —É–∂–µ –ø–æ–∫—É–ø—â–∏–∫–∏ —è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç, —Ç–æ–≥–¥–∞ –∏ –≤—ã–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç –∏—Ö. –û–¥–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ—É–¥–æ–±—Å—Ç–≤–æ, –∏–ª–∏ –ª—É—á—à–µ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å —É–≥—Ä–æ–∂–∞–µ—Ç –≤—Å–µ–º —Ç–∞–∫–æ–≤—ã–º —Å–ª–∞–≤–Ω—ã–º –∫ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ø–æ–ª—å–∑–µ —Å–ª—É–∂–∞—â–∏–º –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è–º, –∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–∞—è, –≥–∏–±–µ–ª—å–Ω–∞—è, –≤–µ—Å—å–º–∞ —á–∞—Å—Ç–æ –º–µ–∂–¥—É –∏—Ö —Å–≤–∏—Ä–µ–ø—Å—Ç–≤—É—é—â–∞—è –±–æ–ª–µ–∑–Ω—å, –æ—Å–ø–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è, –∫–∞–∫ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –µ—Å–ª–∏ –≤–æ—Ä–≤—ë—Ç—Å—è –æ–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑, —Ç–æ –Ω–µ—Ç –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –∏–∑–±–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç —Å–º–µ—Ä—Ç–∏, —Ö–æ—Ç—è –æ–¥–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–µ, —Å–∫–æ–ª—å –±—ã –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å—Ç–∞–¥–æ –Ω–∏ –±—ã–ª–æ. –í –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–µ–º –≥–æ–¥—É —É–≥—Ä–æ–∂–∞–ª–∞ —Å–∏—è –æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –∑–¥–µ—à–Ω–µ–º—É —Å–ª–∞–≤–Ω–æ–º—É –∑–∞–≤–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤–æ –≤—Å–µ–π –∑–¥–µ—Å—å –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ —ç—Ç–∞ –±–æ–ª–µ–∑–Ω—å —Å–≤–∏—Ä–µ–ø—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞; –æ–¥–Ω–∞–∫–æ–∂ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã–º–∏ –º–µ—Ä–∞–º–∏ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–µ–¥–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –æ–Ω–∞—è —Å—é–¥–∞ –Ω–µ –¥–æ–ø—É—â–µ–Ω–∞, –∏ –≥. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª –±—ã–ª —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —â–∞—Å—Ç–ª–∏–≤, —á—Ç–æ —Å–ø–∞—Å –≤—Å—ë —Å–≤–æ—ë —Å—Ç–∞–¥–æ, –Ω–µ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–≤ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –æ–≤—Ü—ã. –Ý–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—è –æ —Å–µ–º, –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª —è –µ–º—É –ø—Ä–∏–≤–∏–≤–∞–Ω–∏–µ –æ–≤—Ü–∞–º –∫–æ—Ä–æ–≤—å–µ–π –æ—Å–ø—ã, –Ω–∞ —á—Ç–æ –æ–Ω, —è–∫–æ –ø–æ–ø–µ—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∏ –¥–∞–ª—å–Ω–æ–≤–∏–¥—è—â–∏–π —Ö–æ–∑—è–∏–Ω, –≤–µ—Å—å–º–∞ –æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ –∏ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª—Å—è, –∏ —è –≤—ã–ø–∏—Å—ã–≤–∞—é –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ –≤—Å—ë –∫ —Ç–æ–º—É –Ω—É–∂–Ω–æ–µ.
___–•–æ—Ç—è –∑–¥–µ—à–Ω–∏–π –∑–∞–≤–æ–¥ –∏ –¥–æ–≤–µ–¥–µ–Ω —É–∂–µ –¥–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–∞, –∏ –≤—Å–µ —Ä–æ–¥—è—â–∏–µ—Å—è –∑–¥–µ—Å—å –±–∞—Ä–∞–Ω—ã –∏ –æ–≤—Ü—ã –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å—è—Ç —É–∂–µ —Å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –ª–µ—Ç –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â—É—é –®–ø–∞–Ω—Å–∫—É—é —à–µ—Ä—Å—Ç—å —Å–∞–º–æ–π –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –¥–æ–±—Ä–æ—Ç—ã, –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º–æ–≥–æ –º–µ–ª–∫–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –Ω–µ –≥—Ä—É–±–µ—é—â—É—é, –Ω–æ –µ—â—ë –≥–æ–¥ –æ—Ç –≥–æ–¥–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—â—É—é—Å—è –ª—É—á—à–µ—é, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ–∂ –≥. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è –º–Ω–µ, —á—Ç–æ –æ–Ω –∂–µ–ª–∞—è –µ—â—ë —É–ª—É—á—à–∏—Ç—å —Å–≤–æ–π –∑–∞–≤–æ–¥ –æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ –±—ã –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏–ª –¥–æ—Ä–æ–≥–æ—é —Ü–µ–Ω–æ—é –∑–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∂–µ, –∏–∑ —Å–∞–º–æ–π –ò—Å–ø–∞–Ω–∏–∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ —Å–∞–º–æ–π –ª—É—á—à–µ–π –¥–æ–±—Ä–æ—Ç—ã, —Ö–æ—Ç—è–± —Ç–æ –∏ –ø–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å–æ—Ç —Ä—É–±–ª–µ–π –∑–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ. –ù–æ –∫–∞–∫ –æ–Ω –Ω–µ –∏–º–µ–µ—Ç –∫ —Ç–æ–º—É —É–¥–æ–±–Ω–æ–≥–æ —Å–ª—É—á–∞—è, —Ç–æ –∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é –∏ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å —Å–µ–≥–æ –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º —Å—Ç–æ–ª—å –ø–æ—Ö–≤–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∂–µ–ª–∞–Ω–∏—è. –°–≤–µ—Ä—Ö –≤—Å–µ–≥–æ –∏–∑—è—â–µ—Å—Ç–≤–∞ —Å–∞–º–∏—Ö —Å–∏—Ö –º–∏–ª—ã—Ö –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω—ã—Ö, –∫–∞–∫ –≤–∏–¥–æ–º –∏—Ö, —Ç–∞–∫ –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–æ—é –∏ –º—è–≥–∫–æ—Å—Ç–∏—é –∏—Ö —à–µ—Ä—Å—Ç–∏, –∏ —Å–≤–µ—Ä—Ö –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏—Ö, –ø—Ä—è–º–æ –≤ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—â–µ–π, –Ω–∞–π–¥—ë—Ç–µ –≤—ã –µ—â—ë –ø—Ä–∏—Ç–æ–º –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –∫–∞–∫ –∫ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—é –∏—Ö –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏—é, —Ç–∞–∫ –∏ –∫ —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏—é, —Å–∫–∞–∂—É —Å –ø–æ–∑–≤–æ–ª–µ–Ω–∏—è –ø–æ—á—Ç–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≥–≥. –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–≤, –∏—Ö –ø—Ä–∏—Ö–æ—Ç–∏ —Å–ª—É–∂–∞—â–∏—è. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–∞—Å—ë—Ç—Å—è —Å—Ç–∞–¥–æ, —Ç–æ –Ω–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—É—é –≤–∞–º –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∫ –Ω–µ–º—É –¥–∞–∂–µ –∏ –∏–∑–¥–∞–ª–∏, –∏–±–æ –µ–≥–æ –æ–±–µ—Ä–µ–≥–∞–µ—Ç –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–µ–≤–µ–ª–∏–∫–∏—Ö, —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—ã—Ö –æ–≤—á–∞—Ä—Å–∫–∏—Ö, –æ—Ç–º–µ–Ω–Ω–æ –∑–ª—ã—Ö —Å–æ–±–∞–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–±–ª–µ–≥—à–∏ –≤—Å—ë —Å—Ç–∞–¥–æ, —Å—Ç–µ—Ä–µ–≥—É—Ç –æ–Ω–æ–µ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —Å–∞–º—ã–µ –±–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–µ–π—à–∏–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∞ –∏ –ø–∞—Å—Ç—É—Ö–∏ –ª—É—á—à–µ –∏—Ö —Å—Ç–µ—Ä–µ—á—å –Ω–µ –º–æ–≥—É—Ç. –ë—ã–ª–∏ —Å–ª—É—á–∞–∏, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –ø–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –≤–æ–ª–∫–æ–≤ –≤–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–µ–¥–∞–ª–∏. –í –ø–∞—Å—Ç—É—Ö–∞—Ö –Ω–∞–π–¥—ë—Ç–µ –≤—ã –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏—Ö —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –æ–≤—á–∞—Ä–æ–≤, –≤ –æ—Å–æ–±–ª–∏–≤–æ–º –∫ —Ç–æ–º—É –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω–æ–º –Ω–∞—Ä—è–¥–µ —Å –ø—Ä–µ–≤–µ–ª–∏–∫–æ—é –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –ø–∞–ª–∫–æ—é —Å –∫—Ä—é—á–∫–æ–º –Ω–∞ –∫–æ–Ω—Ü–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Ç–æ—Ç—á–∞—Å –ø–æ–π–º–∞–µ—Ç –≤–∞–º –æ–≤—Ü—É, –∫–∞–∫—É—é –≤–∞–º —É–≥–æ–¥–Ω–æ, –∑–∞ –∑–∞–¥–Ω—é—é –Ω–æ–≥—É, –∏ —Ç–∞–∫ –∏—Å–∫—É—Å–Ω–æ –∏ –ø—Ä–æ–≤–æ—Ä–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –¥–∞—Å—Ç –ø—Ä–æ–º–∞—Ö–∞.…»
–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫: http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=5918
–û—Ç—á–µ—Ç –æ–± –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–Ω–æ–π –ø–æ–µ–∑–¥–∫–µ "–û–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã" –ø–æ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∞–º –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏
–ü–æ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–∞–º —Å–∞–π—Ç–∞ "–û–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã" http://oiru.archeologia.ru/ex002.htm#1
11-14 –∏—é–Ω—è 2004 –≥–æ–¥–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–Ω–∞—è –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∞ –û–ò–Ý–£ –ø–æ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∞–º –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –ó–∞ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –¥–Ω—è –±—ã–ª–∏ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–Ω—ã –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–æ—Å—Ç–æ–ø—Ä–∏–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤ –∏ —É—Å–∞–¥–µ–±. –ú–∞—Ä—à—Ä—É—Ç –æ—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—Å–µ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —Ü–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ-–∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω–æ–º –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏–∏ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π, –∫–∞–∫ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –≤ 1944 –≥. –∏–∑ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–∞–π–æ–Ω–æ–≤ –û—Ä–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π, –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏ –ú–æ–≥–∏–ª–µ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–π. –û—Å–æ–±–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞ –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ —Ç—Ä–µ—Ö –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤ - –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –∏ –ë–µ–ª–æ—Ä—É—Å—Å–∏–∏ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª–æ —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–µ –µ–≥–æ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã. –í –Ω–µ–π –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –ø—Ä–æ—è–≤–∏–ª–æ —Å–µ–±—è –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–π. –ú–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω—ã, –Ω–∞–ª–∏—á–∏–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–π —Å–µ—Ç–∏ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –¥–æ—Ä–æ–≥ –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞ –ø–µ–π–∑–∞–∂–µ–π –¥–µ–ª–∞—é—Ç –ë—Ä—è–Ω—Å–∫—É—é –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å –≤–µ—Å—å–º–∞ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –¥–ª—è –ª—é–±–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞. –ù–∞–¥–µ–µ–º—Å—è, —á—Ç–æ —Ç.–Ω. "–±–æ–ª—å—à–æ–µ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–µ –∫–æ–ª—å—Ü–æ" –ø—Ä–∏–≤–ª–µ—á–µ—Ç –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Ü–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ, –∏ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏–µ —Ç—É—Ä–∏–∑–º–∞ –ø–æ—Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø–æ–∫–∞ –µ—â–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—â–∏—Ö—Å—è –≤ –Ω–µ—É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏. –î–ª—è –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–º, —á—Ç–æ –≤—Å–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º—ã –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–ª–∏, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç–ª–∏—á–Ω—ã–º–∏. –≠—Ç–æ –≤—ã–≥–æ–¥–Ω–æ –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç –ë—Ä—è–Ω—Å–∫—É—é –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å –æ—Ç —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏—Ö —Å –Ω–µ–π —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–æ–≤.
–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã—Ö –≤ —Å–µ–ª–µ –ë—Ä—ã–Ω—å –ö–∞–ª—É–∂—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏
–ü–µ—Ä–≤—ã–º –ø—É–Ω–∫—Ç–æ–º –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏ –±—ã–ª–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–∞—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã—Ö –≤ —Å–µ–ª–µ –ë—Ä—ã–Ω—å. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ —ç—Ç–æ –µ—â–µ –î—É–º–∏–Ω–∏—á—Å–∫–∏–π —Ä–∞–π–æ–Ω –ö–∞–ª—É–∂—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É –æ–∑–µ—Ä–∞, –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–ª–æ—Ç–∏–Ω–æ–π –Ω–∞ —Ä–µ—á–∫–µ –ë—Ä—ã–Ω—å —Å –Ω–∞—á–∞–ª–∞ 18 –≤. –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π –∂–µ–ª–µ–∑–æ–ø–ª–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–π –∑–∞–≤–æ–¥, –ø—Ä–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —É–∂–µ –≤ 1720-—Ö –≥–≥. –±—ã–ª–∞ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—á–µ—Å–∫–∞—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞. –ù–∞ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—è—Ö 1970-—Ö –≥–≥. –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã–º–∏ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–∞–ª–∞—Ç—ã, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–≤—à–∏–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–µ —Å–º–µ—à–µ–Ω–∏–µ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ—Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–π —Å —á–µ—Ä—Ç–∞–º–∏ –ø–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã, –∑–∞–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω—ã –µ—â–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤—à–∏–º–∏—Å—è. –°–µ–π—á–∞—Å –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä—É–∏–Ω—ã, –ø–æ—Ä–æ—Å—à–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏. –£–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–π —É—Å–∞–¥–µ–±–Ω–æ-–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –ø–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π —ç–ø–æ—Ö–∏, –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –≤ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç, –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —É—Ç—Ä–∞—á–µ–Ω –∑–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è. –ù–µ–ø–æ–¥–∞–ª–µ–∫—É –æ—Ç —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –≤ –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ª—É—á—à–µ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ —É—Ü–µ–ª–µ–ª–∞ –°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å 1846 –≥. –û–Ω–∞ –≤–æ—Å–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤—ã—Ö –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–æ–≤ —Ä–æ—Ç–æ–Ω–¥–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞. –û—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏–∏, —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–µ—Ç—Å—è –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –¥–µ—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π –æ—Ç–¥–µ–ª–∫–∏. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ –µ–µ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –∏—Å–ø–æ—Ä—Ç–∏–ª–∞ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω—è—è –±–µ–∑–≥—Ä–∞–º–æ—Ç–Ω–∞—è —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏—è.






–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –§.–ò.–¢—é—Ç—á–µ–≤–∞ –≤ –û–≤—Å—Ç—É–≥–µ
–ó–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ —Å –¥–æ—Å—Ç–æ–ø—Ä–∏–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã –§.–ò.–¢—é—Ç—á–µ–≤–∞ –≤ –û–≤—Å—Ç—É–≥–µ (–ñ—É–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ä-–æ–Ω). –°–µ–π—á–∞—Å –∑–¥–µ—Å—å –º—É–∑–µ–π-—É—Å–∞–¥—å–±–∞, –æ–¥–Ω–æ –∏–∑ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–∏—Ö –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω—ã—Ö —Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –º–µ—Å—Ç –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω—ã. –í —Å–µ–ª–µ –≤–∏–¥–Ω—ã –ø—Ä–∏–º–µ—Ç—ã —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –±–ª–∞–≥–æ—É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞ - –Ω–æ–≤—ã–µ –∑–¥–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏, –≥–∞–∑–æ–Ω—ã, –¥–æ—Ä–æ–∂–∫–∏ –∏ —Ç.–¥. –°–∞–º–∞ —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤–æ—Å—Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –∑–∞–Ω–æ–≤–æ. –í –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏—Ö —Ñ–æ—Ä–º–∞—Ö –∞–º–ø–∏—Ä–Ω–æ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –æ—Ç—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω —É—Ç—Ä–∞—á–µ–Ω–Ω—ã–π –±–∞—Ä—Å–∫–∏–π –¥–æ–º (–∑–¥–µ—Å—å —Å–µ–π—á–∞—Å —ç–∫—Å–ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è –º—É–∑–µ—è), –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –≤–æ—Å—Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å - –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –±–∞—Ä–æ–∫–∫–æ. –ù–∞—Å–∞–∂–µ–Ω—ã –ø–∞—Ä–∫–æ–≤—ã–µ –∞–ª–ª–µ–∏, –Ω–∞ –ø—Ä—É–¥—É —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤ —Å –±–µ—Å–µ–¥–∫–æ–π. –ú–µ—Å—Ç–æ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ–µ, –∫ —Ç–æ–º—É –∂–µ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–æ–µ —Å –∂–∏–∑–Ω—å—é –≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∞. –û–¥–Ω–∞–∫–æ, –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —É–∂–µ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å, –≤–æ –≤—Å–µ–º –ø—Ä–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –±—É—Ç–∞—Ñ–æ—Ä—Å–∫–∏–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≤—Ä–µ–º–µ–Ω.




–°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤ —Å–µ–ª–µ –¢–≤–æ—Ä–∏—â–∏—á–∏
–í —Å–µ–ª–µ –¢–≤–æ—Ä–∏—â–∏—á–∏ (–ñ–∏—Ä—è—Ç–∏–Ω—Å–∫–∏–π —Ä-–æ–Ω) —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª—Å—è –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã. –°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –≤ 1818 (–ø–æ –¥—Ä—É–≥–∏–º, —É—Å—Ç–∞—Ä–µ–≤—à–∏–º –¥–∞–Ω–Ω—ã–º –≤ 1850-58 –≥–≥.) –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É —Ç–µ—Ç–∫–∏ –¢—é—Ç—á–µ–≤–∞ –ø–æ–º–µ—â–∏—Ü—ã –í.–ù.–ë–µ–∑–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–æ–π. –í–Ω–µ—à–Ω–µ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–∞ —Ö—Ä–∞–º–∞ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è –Ω–µ—Å—É—Ä–∞–∑–Ω–æ–π - —Ä–∞—Å—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–µ, –ª–∏—à–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–≥–æ –∫—É–ø–æ–ª–∞ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞ –∂–∏–ª–æ–π –¥–æ–º. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ–∑–¥–Ω—è—è –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω—è —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Ö—Ä–∞–º–æ–≤—ã–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏. –ù–∞ —Ñ–∞—Å–∞–¥–∞—Ö, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ –µ—Å—Ç—å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–µ –¥–µ—Ç–∞–ª–∏ - –≥–∏–ø—Å–æ–≤—ã–µ –±–∞—Ä–µ–ª—å–µ—Ñ—ã –∞–ø–æ—Å—Ç–æ–ª–æ–≤ –∏ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞. –í —Å—Ç–∏–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–µ –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ –∑–¥–∞–Ω–∏—è —Ñ–æ—Ä–º—ã –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏–ª–∏—Å—å —Å —á–µ—Ä—Ç–∞–º–∏ "–≥–æ—Ç–∏–∫–∏", –ø—Ä–æ—è–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –≤ —Ñ–æ—Ä–º–µ –æ–∫–æ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–µ–º–æ–≤. –í—Å—è –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —Ö—Ä–∞–º–∞ –∏ –µ–≥–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –≤ –∏–Ω—Ç–µ—Ä—å–µ—Ä–µ - —Ç–∞–º —Å–æ–∑–¥–∞–Ω —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω—ã–π —Ç–µ–∞—Ç—Ä, –∏–º–∏—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–π –≥–æ—Ä—É –§–∞–≤–æ—Ä –∏–∑ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≥–ª—ã–±. –ù–∞–≤–µ—Ä—Ö, –∫ –∏–∫–æ–Ω–æ—Å—Ç–∞—Å—É –≤–æ—Å—Ö–æ–¥—è—Ç –¥–≤–µ –ø–æ–ª—É–∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü—ã, –∞ –ø–æ –ø–µ—Ä–∏–º–µ—Ç—Ä—É –≤—Å–µ–≥–æ –æ–≤–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É—Ç –±–∞–ª–∫–æ–Ω, –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–µ–º—ã–π –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞–º–∏. –í–Ω–∏–∑—É, –ø–æ–¥ —Ñ–∞–Ω—Ç–∞—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –≥–æ—Ä–æ–π, –∫–∞–∫ –±—ã –≤ –ø–µ—â–µ—Ä–µ, —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –ì–µ–æ—Ä–≥–∏–µ–≤—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏–¥–µ–ª. –í —Ü–µ–ª–æ–º –∏–Ω—Ç–µ—Ä—å–µ—Ä —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤–æ—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫ –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∏—á–Ω–æ–º—É —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—é –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ –°–ø–∞—Å–æ-–í–∏—Ñ–∞–Ω—Å–∫–æ–π –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–∏ –±–ª–∏–∑ –¢—Ä–æ–∏—Ü–µ-–°–µ—Ä–≥–∏–µ–≤–æ–π –ª–∞–≤—Ä—ã. –û–Ω –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –ø–æ –∑–∞–º—ã—Å–ª—É –º–∏—Ç—Ä–æ–ø–æ–ª–∏—Ç–∞ –ü–ª–∞—Ç–æ–Ω–∞ –∏ –≤ –∑—Ä–∏–º—ã—Ö —Ñ–æ—Ä–º–∞—Ö –≤–æ–ø–ª–æ—â–∞–ª –ø–µ–π–∑–∞–∂ –°–≤—è—Ç–æ–π –ó–µ–º–ª–∏, –≥–¥–µ –ø–æ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏—é —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–ª–æ—Å—å –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ. –•—Ä–∞–º –≤ –í–∏—Ñ–∞–Ω–∏–∏ –±—ã–ª —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω –≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è, –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤ –¢–≤–æ—Ä–∏—â–∏—á–∞—Ö —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω–∞. –ù–∞–¥–æ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏—Ç—å —Ç–∞–∫–∂–µ –∏–∫–æ–Ω–æ—Å—Ç–∞—Å—ã, —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∞–º–∏ –≤ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –æ–∫–∫—É–ø–∞—Ü–∏–∏. –£–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–∏—è —Å–æ–±—Ä–∞–Ω—ã –∏–∑ —Ñ—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç–æ–≤ —Ä–µ–∑–Ω—ã—Ö –æ–∫–æ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞–ª–∏—á–Ω–∏–∫–æ–≤, –∞ —Å–∞–º–∏ –∏–∫–æ–Ω—ã –æ—Ç–ª–∏—á–∞—é—Ç—Å—è –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é. –ê—Ç–º–æ—Å—Ñ–µ—Ä–∞ –≤ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ—á–µ–Ω—å –¥–æ–±—Ä–æ–∂–µ–ª–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –∏ —É—é—Ç–Ω–∞—è, —á–µ–º—É –Ω–µ–º–∞–ª–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞, –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö —Å–≤–µ—Ç–ª—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –¥–æ–≤–µ–ª–æ—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤ —Ä–∞–º–∫–∞—Ö —ç—Ç–æ–π –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏.













–ê—Ö—Ç—ã—Ä—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤ —Å–µ–ª–µ –ß–µ—Ä–Ω–µ—Ç–æ–≤–æ
–í —Å–µ–ª–µ –ß–µ—Ä–Ω–µ—Ç–æ–≤–æ –±—ã–ª–∞ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–Ω–∞ –ê—Ö—Ç—ã—Ä—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å, –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–∞—è –≤ —É—Å–∞–¥—å–±–µ –ø–æ–º–µ—â–∏—Ü—ã –ù–∞–¥–æ—Ä–æ–∂–∏–Ω—Å–∫–æ–π –≤ 1805 –≥. –≠—Ç–æ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤—à–∞—è—Å—è –Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ —Ä–æ—Ç–æ–Ω–¥–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å. –ú–æ—â–Ω—ã–π –∏ –ª–∞–∫–æ–Ω–∏—á–Ω—ã–π —Ü–∏–ª–∏–Ω–¥—Ä —É–≤–µ–Ω—á–∞–Ω –ø—Ä–∏–∑–µ–º–∏—Å—Ç—ã–º –∫—É–ø–æ–ª–æ–º. –ù–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—Ç –∫–∞–∫–∏–µ-–ª–∏–±–æ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω—ã–µ –¥–µ—Ç–∞–ª–∏. –ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞—è –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å —Ö—Ä–∞–º–∞ - —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –Ω–∏—à–∏-—ç–∫—Å–µ–¥—Ä—ã –Ω–∞ —Ñ–∞—Å–∞–¥–∞—Ö, –æ—Ñ–æ—Ä–º–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–∞—Ä–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞–º–∏. –•—Ä–∞–º –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫. –°–∞–º–æ —Å–µ–ª–æ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –Ω–∞ –≤–æ–∑–≤—ã—à–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ä—è–¥–æ–º —Å —Ä–µ–∫–æ–π –î–µ—Å–Ω–æ–π. –û—Ç —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –≤–∏–¥—ã –Ω–∞ –∑–∞—Ä–µ—á–Ω—ã–µ –¥–∞–ª–∏.




–°–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å
–í —Å–∞–º–æ–º –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–µ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –≤—ã–¥–∞—é—â–∏–º—Å—è –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω—ã–º –∞–Ω—Å–∞–º–±–ª–µ–º —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π –°–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å. –û–Ω —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω –≤ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≤ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–º —Å–µ–ª–µ –°—É–ø–æ–Ω–µ–≤–æ, –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–º —Ö–æ–ª–º–µ –Ω–∞–¥ –î–µ—Å–Ω–æ–π. –û–±–∏—Ç–µ–ª—å –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∞ —Å–∞–¥–∞–º–∏. –£–≤—ã, –°–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å —É—Ç—Ä–∞—Ç–∏–ª –≥–ª–∞–≤–Ω—É—é —Å–≤–æ—é –¥–æ–º–∏–Ω–∞–Ω—Ç—É - –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ–±–æ—Ä. –û–Ω –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ 18 –≤. –∏ –¥–æ–ª–≥–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª—Å—è –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç–æ—Ä—É –ò.–ú–∏—á—É—Ä–∏–Ω—É. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π –ø—è—Ç–∏–∫—É–ø–æ–ª—å–Ω—ã–π —Å–æ–±–æ—Ä –≤ —Å—Ç–∏–ª–µ –±–∞—Ä–æ–∫–∫–æ. –ï–≥–æ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∏ –≤ 1930 –≥. –°–µ–π—á–∞—Å –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –≥–æ—Ä–∞ –∏–∑ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω—ã—Ö –æ–±–ª–æ–º–∫–æ–≤, —É–∂–µ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–∞—Ä–æ—Å—à–∏—Ö –∑–µ–º–ª–µ–π –∏ —Ç—Ä–∞–≤–æ–π. –î—Ä—É–≥–∏–µ, —É—Ü–µ–ª–µ–≤—à–∏–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—è –∑–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω—ã –≤ –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫. –û—Ç—Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω—ã –Ω–∞–¥–≤—Ä–∞—Ç–Ω–∞—è –°—Ä–µ—Ç–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å - —è—Ä–∫–∏–π –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –Ω–∞—Ä—ã—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ç–∏–ª—è, –∏ –°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–∞–º —Å –¥–µ–∫–æ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–º–∏ –¥–µ—Ç–∞–ª—è–º–∏ –≤ –¥—É—Ö–µ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –±–∞—Ä–æ–∫–∫–æ. –û—Ç –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π—à–µ–≥–æ –∑–¥–∞–Ω–∏—è –æ–±–∏—Ç–µ–ª–∏ - —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –°–≤. –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∏—è –∏ –§–µ–æ–¥–æ—Å–∏—è –ü–µ—á–µ—Ä—Å–∫–∏—Ö 16 –≤. - –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–¥–∫–ª–µ—Ç –∏ —á–∞—Å—Ç–∏ —Å—Ç–µ–Ω. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∞ –≤ –æ–¥–Ω–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å —Å–æ–±–æ—Ä–æ–º.











–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –ê. –ö –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –≤ —Å. –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥
–°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º –ø—É–Ω–∫—Ç–æ–º –º–∞—Ä—à—Ä—É—Ç–∞ –±—ã–ª–∞ —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥ (–ü–æ—á–µ–ø—Å–∫–∏–π —Ä-–æ–Ω). –í 18 –≤. –æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∞ –≥—Ä–∞—Ñ–∞–º –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–º, –∑–∞—Ç–µ–º –ø–æ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ª–∏–Ω–∏–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –≤–æ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–∏ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∞ –ê.–ö.–¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ, –ø—Ä—è–º–æ–≥–æ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞ –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏—Ö. –ë—Ä–∞—Ç–æ–º –µ–ª–∏–∑–∞–≤–µ—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–∞–≤–æ—Ä–∏—Ç–∞ –ö.–ì.–Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–º –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –æ—Ö–æ—Ç–Ω–∏—á–∏–π –∑–∞–º–æ–∫, –ø–æ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏—é —Å–ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –Ý–∞—Å—Ç—Ä–µ–ª–ª–∏. –û–Ω –±—ã–ª –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–º –∏ –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ –∑–∞ –≤—Ä–µ–º—è —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è –Ω–µ–æ–¥–Ω–æ–∫—Ä–∞—Ç–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª—Å—è. –í –≥–æ–¥—ã –≤–æ–π–Ω—ã –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –±—ã–ª –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é —É—Ç—Ä–∞—á–µ–Ω. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –Ω–∞ –µ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–æ–≤–æ–¥–µ–ª, —Å—Ç–∏–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–µ–º—ã–π. –í –Ω–µ–º —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω –º—É–∑–µ–π –ê.–ö.–¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ. –í —Å–∞–º–æ–º —Å–µ–ª–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞—Å—å –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å, –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–∞—è –≤ 1777 –≥. –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É —Ç–æ–≥–æ –∂–µ –ö.–ì.–Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ. –≠—Ç–æ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π –ø—Ä–∏–º–µ—Ä —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ 18 –≤., —Å —Ç—Ä–µ—Ö—á–∞—Å—Ç–Ω–æ–π –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–µ–π –∏ –º–Ω–æ–≥–æ—è—Ä—É—Å–Ω—ã–º–∏ –∑–≤–µ—à–µ–Ω–∏—è–º–∏. –í–æ–∑–ª–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ —á–∞—Å–æ–≤–Ω—è-—É—Å—ã–ø–∞–ª—å–Ω–∏—Ü–∞ –ê.–ö.–¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ —Å –ø–æ–¥–∑–µ–º–Ω—ã–º —Å–∫–ª–µ–ø–æ–º, –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏–º–∏—Ç–∏–≤–Ω–∞—è.





–í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ–±–æ—Ä –≤ –≥. –ü–æ—á–µ–ø
–ì–æ—Ä–æ–¥–æ–∫ –ü–æ—á–µ–ø –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–∏–π —Ä–∞–π—Ü–µ–Ω—Ç—Ä –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω—ã, –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç—Ä–∏—Ü–µ–π –ï–ª–∏–∑–∞–≤–µ—Ç–æ–π –≤ 1760 –≥. –±—ã–ª –ø–æ–¥–∞—Ä–µ–Ω –ö.–ì.–Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–æ–º—É. –ó–¥–µ—Å—å —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–∞—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–∞. –î–æ –≤–æ–π–Ω—ã –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–∏ –æ–±—à–∏—Ä–Ω–æ–≥–æ –ø–∞—Ä–∫–∞ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª—Å—è –¥–≤–æ—Ä–µ—Ü, –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–æ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç—É –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ –ñ.–ë.–í–∞–ª–ª–µ–Ω-–î–µ–ª–∞–º–æ—Ç–∞. –ó–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç—ã–π –º–∞—Å—Ç–µ—Ä, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –∏ –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–º –í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞, –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∞, –æ—Å—Ç–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –æ—Ç —É—Å–∞–¥—å–±—ã –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏—Ö. –û–Ω –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤ 1765-1771 –≥. –∏ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –≥–ª–∞–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –≤ –ø–∞–Ω–æ—Ä–∞–º–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞. –≠—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–æ–π –¥–≤—É—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–π —Ö—Ä–∞–º —Å –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω–µ–π, –ø–æ-–ø–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–∏ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ–π —à–ø–∏–ª–µ–º. –î–ª—è –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∏ —ç—Ç–æ —Ä–µ–¥—á–∞–π—à–∏–π –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü —Å–æ–±–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ –≤ —Å—Ç–∏–ª–µ —Ä–∞–Ω–Ω–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞, –¥–∞ –µ—â–µ —Å—Ç–æ–ª–∏—á–Ω–æ–≥–æ —É—Ä–æ–≤–Ω—è. –ü–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º —É–¥–∞—á–µ–Ω –≤ –ø—Ä–æ–ø–æ—Ä—Ü–∏—è—Ö (–∫—É–ø–æ–ª –Ω–µ—Å–æ—Ä–∞–∑–º–µ—Ä–Ω–æ –º–∞–ª), –Ω–æ –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª–µ–Ω, –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–µ–Ω –≤ –¥–µ—Ç–∞–ª—è—Ö –∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ü–µ–Ω–µ–Ω —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∏–Ω—Ç–µ—Ä—å–µ—Ä–∞. –í–Ω—É—Ç—Ä–∏ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ —É—Ü–µ–ª–µ–ª —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã–π –∏–∫–æ–Ω–æ—Å—Ç–∞—Å –µ–ª–∏–∑–∞–≤–µ—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –±–∞—Ä–æ–∫–∫–æ, –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–æ–π –Ý–∞—Å—Ç—Ä–µ–ª–ª–∏. –°–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞—Å—å —Ç–æ–Ω—á–∞–π—à–∞—è –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–∞—è —Ä–µ–∑—å–±–∞ "–≤–æ –≤–∫—É—Å–µ —Ä–æ–∫–æ–∫–æ", –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–∞—è —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç—É—Ä–∞, –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–µ –∏–∫–æ–Ω—ã, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã–µ "–ø—Ä–∏–¥–≤–æ—Ä–Ω—ã–º" —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–º –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –ì.–°—Ç–µ—Ü–µ–Ω–∫–æ.







–£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ–±–æ—Ä –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞
–î—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã–π –≥–æ—Ä–æ–¥, –ú–≥–ª–∏–Ω, —Ç–∞–∫–∂–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª —Å–≤–æ–π –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π —Ö—Ä–∞–º - –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∏–π (1815-1830 –≥–≥.). –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –µ–≥–æ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–∞ –º–µ–Ω–µ–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞. –°–æ–±–æ—Ä —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Ç–∏–ø–∏—á–Ω—ã–º –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–æ–º –ø—è—Ç–∏–∫—É–ø–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ –≤ —ç–ø–æ—Ö—É –∞–º–ø–∏—Ä–∞. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏–∑–µ–º–∏—Å—Ç—ã–π –∫—É–± —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö–∫–æ–ª–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–æ—Ä—Ç–∏–∫–∞–º–∏ –∏ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω —Ç—è–∂–µ–ª–æ–≤–∞—Ç—ã–º–∏ –ø–æ –ø—Ä–æ–ø–æ—Ä—Ü–∏—è–º–∏ –∫—É–ø–æ–ª–∞–º–∏. –î–æ 1930-—Ö –≥–≥. –æ–±–ª–∏–∫ —Å–æ–±–æ—Ä–∞ –±—ã–ª –∏–Ω—ã–º, –±–æ–ª–µ–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–º. –ù–∞ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–º —Ñ–∞—Å–∞–¥–µ, –≤—ã—Ö–æ–¥—è—â–µ–º –Ω–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥—å, –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –≤–æ–∑–≤—ã—à–∞–ª–∏—Å—å –¥–≤–µ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã–µ –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω–∏, —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è–≤—à–∏–µ—Å—è —Å —Å–æ–±–æ—Ä–æ–º –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞–¥–∞–º–∏. –ú–µ—Å—Ç–∞ –ø—Ä–∏–º—ã–∫–∞–Ω–∏—è —ç—Ç–∏—Ö –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞–¥ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö —Ö—Ä–∞–º–∞. –£–≤—ã, –±–∞—à–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —Å–Ω–µ—Å–µ–Ω—ã, –∏ —Å–æ–±–æ—Ä —Å—Ç–∞–ª –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∏—á–Ω—ã–µ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞—Ö –∏ —É—Å–∞–¥—å–±–∞—Ö. –í–º–µ—Å—Ç–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å –ø–µ—Ä–≤–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω—ã–π –æ–±–ª–∏–∫ –∞–Ω—Å–∞–º–±–ª—è, –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ —Ä—è–¥–æ–º –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –Ω–µ—Å—É—Ä–∞–∑–Ω—É—é –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω—é –∏–∑ —Å–∏–ª–∏–∫–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞. –ù–µ–ø–æ–¥–∞–ª–µ–∫—É —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞—Å—å –µ—â–µ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –°–≤. –í–∞—Ä–≤–∞—Ä—ã 1874 –≥. - –∑–∞—É—Ä—è–¥–Ω—ã–π –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ "—Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ç–∏–ª—è". –í —Ü–µ–ª–æ–º –ú–≥–ª–∏–Ω –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ —Ç–∏—Ö–æ–≥–æ, –ø–æ–≥—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤ —Å–æ–Ω –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∫–∞.


–ê–Ω–¥—Ä–µ–π –ß–µ–∫–º–∞—Ä–µ–≤
–•—É—Ç–æ—Ä –ö–æ—Å–∞—á–µ–π –≤ –õ—É—Ü–∞—Ö
–ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–µ –ö–æ—Å–∞—á–∏ – –ø—Ä–µ–¥–∫–∏ –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏
–°–æ–≤—Å–µ–º —Ä—è–¥–æ–º —Å –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–æ–º –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —Ö—É—Ç–æ—Ä –õ—É—Ü—ã (–ø–æ—Å–ª–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π), –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É —Å—É–∂–¥–µ–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—ã–≥—Ä–∞—Ç—å –≤–∞–∂–Ω—É—é —Ä–æ–ª—å –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ –∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è, –Ω–æ –∏ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ (–ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ, –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–æ–≥–æ, –ù–æ–≤–æ–∑—ã–±–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–≥–æ). –•—É—Ç–æ—Ä –õ—É—Ü—ã —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–Ω–µ–π—à–∏—Ö –º–µ—Å—Ç –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞, –Ω–∞ –≤–æ–∑–≤—ã—à–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –æ–∫–∞–π–º–ª—è–µ–º–æ–π —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –Æ–≥–∞ –∏ –ó–∞–ø–∞–¥–∞ —Ä. –°—É–¥—ã–Ω–∫–æ–π, –∞ —Å –Æ–≥–æ-–í–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ – –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º –æ–≤—Ä–∞–≥–æ–º.
–ö–∞—Ä—Ç–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–∞ –õ—É—Ü—ã –∏ –¥. –°—Ç–∞—Ä—ã–µ –ß–µ—à—É–π–∫–∏
–ü–æ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ —Ö—É—Ç–æ—Ä –±—ã–ª –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π, –¥–µ—Å—è—Ç–∏–Ω 40-45, –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ. –ü–∞—à–Ω–∏ –±—ã–ª–æ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–Ω 30, –∞ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–∞—è –ø–ª–æ—â–∞–¥—å –±—ã–ª–∞ –∑–∞–Ω—è—Ç–∞ –ø–æ–π–º–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–µ–Ω–æ–∫–æ—Å–æ–º, –º–æ–ª–æ–¥—ã–º–∏ –∑–∞—Ä–æ—Å–ª—è–º–∏ –±–µ—Ä–µ–∑–Ω—è–∫–∞, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞–º –æ–≤—Ä–∞–≥–æ–≤, —Å–ø—É—Å–∫–∞—é—â–∏—Ö—Å—è –∫ —Ä–µ–∫–µ –°—É–¥—ã–Ω–∫–µ.
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ XIX –≤–µ–∫–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä –õ—É—Ü—ã –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª –¥–≤–æ—Ä—è–Ω–∏–Ω—É, —Å –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π—à–∏–º–∏ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∫–æ—Ä–Ω—è–º–∏, –ê–Ω—Ç–æ–Ω—É –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∏—á—É –ö–æ—Å–∞—á—É.
–ù–∞—á–∞–ª–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –ö–æ—Å–∞—á–∏ –≤–µ–¥—É—Ç —Å–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω —Å–µ—Ä–±—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞–º–µ—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞ –ë–æ—Å–Ω–∏–∏ –∏ –ì–µ—Ä—Ü–µ–≥–æ–≤–∏–Ω—ã –°—Ç–µ—Ñ–∞–Ω–∞ –ö–æ—Å–∞—á–∞ (–æ–∫–æ–ª–æ 1444), –∞ —É–∂–µ –¥–∞–ª—å—à–µ - –æ—Ç «—à–ª—è—Ö—Ç–∏—á–∞ –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –∫–æ—Ä–æ–Ω—ã» –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ö–æ—Å–∞—á–∞, –≤—ã—à–µ–¥—à–µ–≥–æ –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏—é –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ XVII –≤., —Å–ª—É–∂–∏–≤—à–µ–≥–æ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤ –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–º –≤–æ–π—Å–∫–µ –Ø–Ω–∞ –°–æ–±–µ—Å–∫–æ–≥–æ, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±–µ "–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–∏—á–∏–º" (1690-1705), –ø—Ä–∏ –ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫–∞—Ö –ú–∏–∫–ª–∞—à–µ–≤—Å–∫–æ–º –∏ –°–∫–æ—Ä–æ–ø–∞–¥—Å–∫–æ–º. [1]
–í–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏, –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–∫–∏ –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ö–æ—Å–∞—á–∞ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ –ø–æ—Å—Ç—ã –≤ –ø–æ–ª–∫–æ–≤–æ–π –∫–∞–Ω—Ü–µ–ª—è—Ä–∏–∏, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Å—å –Ω–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö —Å–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø–æ–ª–∫–æ–≤—ã—Ö –ø–∏—Å–∞—Ä–µ–π, –µ—Å–∞—É–ª–æ–≤ –∏ —Å—É–¥–µ–π. –û–¥–Ω–∞–∫–æ, –∑–∞ —Å–≤–æ—é —Å–ª—É–∂–±—É –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–π –ö–æ—Å–∞—á–∏ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏.
–°—ã–Ω –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ö–æ—Å–∞—á–∞ –í–∞—Å–∏–ª–∏–π, —Ä–æ–¥–∏–≤—à–∏–π—Å—è —É–∂–µ –Ω–∞ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ, —Å–ª—É–∂–∏–ª –∑–Ω–∞—á–∫–æ–≤—ã–º —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–º, –∞—Å–µ—Å—Å–æ—Ä–æ–º –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª–∫–æ–≤–æ–≥–æ —Å—É–¥–∞ –∏ —Å–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–º –≤ –ë–∞–∫–ª–∞–Ω–∏ (1732-1755). –°—Ç–µ–ø–∞–Ω –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –ö–æ—Å–∞—á, —Å—ã–Ω –±–∞–∫–ª–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ—Ç–Ω–∏–∫–∞ –∏ –≤–Ω—É–∫ –ü–µ—Ç—Ä–∞, –±—ã–ª —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–∏—Å–∞—Ä–µ–º –ø–æ–ª–∫–æ–≤–æ–≥–æ —Å—É–¥–∞, –µ—Å–∞—É–ª–æ–º –∏ –ø–æ–ª–∫–æ–≤—ã–º –ø–∏—Å–∞—Ä–µ–º –≤ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–º –ø–æ–ª–∫—É (1757-1760), –∑–∞—Ç–µ–º –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–∏–º –º–∞—Ä—à–∞–ª–∫–æ–º (–ø—Ä–µ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–∞) –≤ –ü–æ–≥–∞—Ä—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ.
–ë—É–Ω—á—É–∫–æ–≤—ã–π —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π –°—Ç–µ–ø–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ö–æ—Å–∞—á –≤ 1782 –≥–æ–¥—É –±—ã–ª –≤—ã–±—Ä–∞–Ω –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–º –ø–æ–≤–µ—Ç–æ–≤—ã–º –º–∞—Ä—à–∞–ª–∫–æ–º, –∞ –µ–≥–æ —Å—ã–Ω – –ê–Ω—Ç–æ–Ω –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∏—á –ö–æ—Å–∞—á, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∏ —Å—Ç–∞–ª –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–º —Ö—É—Ç–æ—Ä–∞ –õ—É—Ü—ã, – —Å–ª—É–∂–∏–ª –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∫–æ–ª–ª–µ–∂—Å–∫–∏–º —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º. [1,2,3,4]
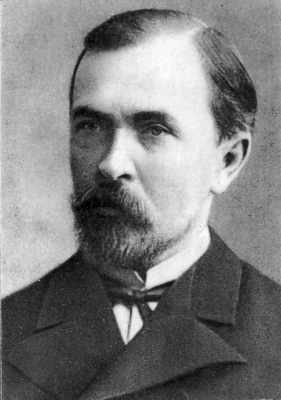 27 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1841 –≥–æ–¥–∞ –ê–Ω—Ç–æ–Ω –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∏—á –ö–æ—Å–∞—á –∂–µ–Ω–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –ú–∞—Ä–∏–∏ –°—Ç–µ–ø–∞–Ω–æ–≤–Ω–µ –ß–µ—Ä–Ω—è–≤—Å–∫–æ–π. –í–µ–Ω—á–∞–ª–∏—Å—å –æ–Ω–∏ –≤ –ö—Ä–µ—Å—Ç–æ-–í–æ–∑–¥–≤–∏–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞, —á—Ç–æ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–µ—Ç –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç, —Ö—Ä–∞–Ω—è—â–∏–π—Å—è –≤ –º—É–∑–µ–µ –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏ –≤ –ö–∏–µ–≤–µ.
27 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1841 –≥–æ–¥–∞ –ê–Ω—Ç–æ–Ω –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∏—á –ö–æ—Å–∞—á –∂–µ–Ω–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –ú–∞—Ä–∏–∏ –°—Ç–µ–ø–∞–Ω–æ–≤–Ω–µ –ß–µ—Ä–Ω—è–≤—Å–∫–æ–π. –í–µ–Ω—á–∞–ª–∏—Å—å –æ–Ω–∏ –≤ –ö—Ä–µ—Å—Ç–æ-–í–æ–∑–¥–≤–∏–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞, —á—Ç–æ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–µ—Ç –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç, —Ö—Ä–∞–Ω—è—â–∏–π—Å—è –≤ –º—É–∑–µ–µ –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏ –≤ –ö–∏–µ–≤–µ.
–í –º–æ–ª–æ–¥–æ–π —Å–µ–º—å–µ 2 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1842 –≥. –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è —Å—Ç–∞–≤—à–∏–π —à–∏—Ä–æ–∫–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º –Ω–∞ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª—å –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã –∏ –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–∏, –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å, –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å –∏ –º–µ—Ü–µ–Ω–∞—Ç –ü–µ—Ç—Ä –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á –ö–æ—Å–∞—á – –æ—Ç–µ—Ü –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ø–æ—ç—Ç–µ—Å—Å—ã –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏.
–ü–µ—Ç—Ä –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á –ö–æ—Å–∞—á
–í —Å–≤–æ–∏—Ö –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è—Ö –¥–æ—á—å –ü–µ—Ç—Ä–∞ –∏ —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ –õ–µ—Å–∏ –û–ª—å–≥–∞ –ö–æ—Å–∞—á-–ö—Ä–∏–≤–∏–Ω—é–∫ –ø–∏—Å–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –¥–µ–¥ –Ω–∞—à, –ê–Ω—Ç–æ–Ω –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–≤–∏—á, –±—ã–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –º–∞–ª–æ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π, –Ω–æ –æ—Ç –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã –æ—á–µ–Ω—å —É–º–Ω—ã–π, —á–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ –±—ã–ª –æ–Ω —É–∂–∞—Å–Ω–æ –≤—Å–ø—ã–ª—å—á–∏–≤—ã–π –∏ –º–æ–≥ –≤—Å–∫–∏–ø–µ—Ç—å –¥–æ —É–º–æ–ø–æ–º—Ä–∞—á–µ–Ω–∏—è. –£–º–µ—Ä –ê–Ω—Ç–æ–Ω –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–≤–∏—á –≤ 1910 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ–º—É –±—ã–ª–æ 96 –ª–µ—Ç, –∏ —á—É—Ç—å –ª–∏ –Ω–µ –¥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –±—ã–ª —Å–∏–ª—å–Ω—ã–º –∏ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—ã–º, —Ö–æ–¥–∏–ª –∏ –µ–∑–¥–∏–ª –≤–µ—Ä—Ö–æ–º –Ω–∞ –æ—Ö–æ—Ç—É, —É–¥–∏–≤–ª—è–ª—Å—è, –∫–æ–≥–¥–∞ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ —É –Ω–µ–≥–æ –∑—É–±—ã –±–æ–ª—è—Ç, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç «–∫–æ—Å—Ç—å –±–æ–ª–µ—Ç—å» [3].
–í 1825 –≥–æ–¥—É –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä I, –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞—è —á–µ—Ä–µ–∑ –ú–≥–ª–∏–Ω –∏–∑ –°.-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–∞ –≤ –¢–∞–≥–∞–Ω—Ä–æ–≥, –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤ –¥–æ–º–µ –ü–∞–≤–ª–∞ –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∏—á–∞ –ö–æ—Å–∞—á–∞ (–æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, –±—Ä–∞—Ç–∞ –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∞), –¥–ª—è —á–µ–≥–æ –≤ –µ–≥–æ –¥–æ–º —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –±—ã–ª–∞ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∞ –º–µ–±–µ–ª—å –∏–∑ –ü–æ—á–µ–ø–∞ –æ—Ç –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–∞ –∫–Ω—è–∑—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∏—á–∞ –Ý–µ–ø–Ω–∏–Ω–∞. 13 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è –æ–Ω–∏ –Ω–æ—á–µ–≤–∞–ª–∏ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –≤ –¥–æ–º–µ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω–∏–Ω–∞ –ö–æ—Å–∞—á–∞, –∞ —É—Ç—Ä–æ–º 14 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç—Ä–∏—Ü–∞ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–Ω–æ–π –ª–∏—Ç—É—Ä–≥–∏–∏ –≤ –í–æ–∑–¥–≤–∏–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—â–µ–π—Å—è –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –≥–æ—Ä–µ, –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º–æ–π –í–æ–∑–¥–≤–∏–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π.
–õ.–ò. –î—É–¥–∏—Ü–∫–∏–π-–õ–∏—à–∏–Ω –≤ —Å–≤–æ–µ–º –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫–µ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –±—ã–ª –ª–∞—Å–∫–æ–≤, «–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å–æ –º–Ω–æ–≥–∏–º–∏, –∫–∞–∫-—Ç–æ: —Ö–æ–∑—è–π–∫–æ–π –¥–æ–º–∞, –∂–µ–Ω–æ—é –ö–æ—Å–∞—á–∞; –º–æ–µ–π –ø–ª–µ–º—è–Ω–Ω–∏—Ü–µ–π, –¥–æ—á–µ—Ä—å—é –í–∞—Å–∏–ª–∏—è –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∏—á–∞ –õ–∏—à–µ–Ω—è, –ê–Ω–Ω–æ–π –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–Ω–æ–π, –∏ —Ä—É–∫—É –µ—ë —Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª; –ø–æ–¥–ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–º – –¥–≤–æ—é—Ä–æ–¥–Ω—ã–º –±—Ä–∞—Ç–æ–º –º–æ–∏–º –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–µ–º –§—ë–¥–æ—Ä–æ–≤–∏—á–µ–º –î—É–¥–∏—Ü–∫–∏–º-–õ–∏—à–∏–Ω—ã–º; –ü–µ—Ç—Ä–æ–º –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–µ–º –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏–º; –º–∞—Ä—à–∞–ª–∫–æ–º –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º –Ý–æ—Å–ª–∞–≤—Ü–æ–º».
–£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ–±–æ—Ä –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞
–í–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ I –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∏–∑-–∑–∞ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–º –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ–±–æ—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –¥–æ–±—Ä–æ–≤–æ–ª—å–Ω—ã–µ –ø–æ–∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –≤ —á–µ—Å—Ç—å –ø–æ–±–µ–¥—ã –≤ –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω–µ 1812 –≥–æ–¥–∞. –ñ–∏—Ç–µ–ª–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –∫ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—É –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä—É I —Å –ø—Ä–æ—Å—å–±–æ–π –æ –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –Ω–∞ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ —Å–æ–±–æ—Ä–∞.
–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä I –æ–±–µ—â–∞–ª –≤—ã–¥–µ–ª–∏—Ç—å –Ω–∞ –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫—É —Å–æ–±–æ—Ä–∞ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º—ã–µ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –≤ –¢–∞–≥–∞–Ω—Ä–æ–≥–µ –æ–Ω —Å–∫–æ—Ä–æ–ø–æ—Å—Ç–∏–∂–Ω–æ —Å–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è. –ò –≤—Å–µ –∂–µ –ø—Ä–æ—Å—å–±–∞ –º–≥–ª–∏–Ω—á–∞–Ω –±—ã–ª–∞ —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∞ –ø—Ä–∏ —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è I: –≤ 1827 –≥–æ–¥—É –∏–∑ –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç–∞ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏—Å–ª–∞–Ω–æ –Ω–∞ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞ –∏ –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∏–µ –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª–æ–≤ –ø—è—Ç—å —Ç—ã—Å—è—á —Ä—É–±–ª–µ–π –∞—Å—Å–∏–≥–Ω–∞—Ü–∏—è–º. –í 1830 –≥–æ–¥—É —Ö—Ä–∞–º –±—ã–ª –æ—Å–≤—è—â–µ–Ω, –∏ –≤ –Ω–µ–º –Ω–∞—á–∞–ª–æ—Å—å –±–æ–≥–æ—Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏–µ. [5]
–°–µ–º–µ–Ω –ê–Ω–¥—Ä–æ–Ω–æ–≤–∏—á –ì–∞—Ç—Ü—É–∫, –∞—Ä—Ö–µ–æ–ª–æ–≥ –∏ —É—á–∏—Ç–µ–ª—å —Å–µ–ª–∞ –°—Ç–∞—Ä—ã–µ –ß–µ—à—É–π–∫–∏, –≤ —Å–≤–æ–µ–π —Å—Ç–∞—Ç—å–µ «–ù–∞ –º–æ–≥–∏–ª—É –ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥ (–∞—Ä—Ö–µ–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —ç–∫—Å–∫—É—Ä—Å–∏—è 1901 –≥.)» –æ—Ç–º–µ—á–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π, –±—É–¥—É—á–∏ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ, –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–∏—Å—å–º–∞—Ö –≤ 1840 –≥. –ø–∏—Å–∞–ª, —á—Ç–æ «…–ú–≥–ª–∏–Ω –∑–∞—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è, –∫–∞–∫ —Å–≤–æ–µ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–æ–π, —Ç–∞–∫ –∏ –ø–æ –≥–æ—Å–ø–æ–¥—Å—Ç–≤—É –º–µ—Å—Ç–∞ –Ω–∞–¥ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –≥–¥–µ –∫—Ä–∞—Å—É–µ—Ç—Å—è —Å–æ–±–æ—Ä». –í–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –≤–∏–¥–æ–º –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞ –ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–µ–µ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ –ë–ª–∞–≥–æ–≤–µ—Å—Ç, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –µ—Å—Ç—å —Ç–∞–∫–∏–µ —Å—Ç—Ä–æ–∫–∏:
|
–°—Ä–µ–¥–∏ –¥—É–±—Ä–∞–≤—ã –ë–ª–µ—Å—Ç–∏—Ç –∫—Ä–µ—Å—Ç–∞–º–∏ –•—Ä–∞–º –ø—è—Ç–∏–≥–ª–∞–≤—ã–π –° –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª–∞–º–∏. |
–ö —Å–µ–±–µ –æ–Ω —Ç—è–Ω–µ—Ç –ù–µ–æ–¥–æ–ª–∏–º–æ, –ó–æ–≤–µ—Ç –∏ –º–∞–Ω–∏—Ç –û–Ω –≤ –∫—Ä–∞–π —Ä–æ–¥–∏–º—ã–π ... |
–° –∫–∞–∫–æ–π –±—ã —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫ –Ω–µ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–∂–∞–ª –∫ –≥–æ—Ä–æ–¥—É, –µ–º—É –≤—Å—é–¥—É –±—Ä–æ—Å–∞–ª–æ—Å—å –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ —Ä–µ–ª—å–µ—Ñ–Ω–æ–µ –æ—á–µ—Ä—Ç–∞–Ω–∏–µ —Ö—Ä–∞–º–∞ —Å –µ–≥–æ –¥–≤—É–º—è –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º–∏ –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω—è–º–∏ –∏ –ø—è—Ç—å—é –∫—É–ø–æ–ª–∞–º–∏. –ò —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è, –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω–æ-—Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞, —Å–æ–±–æ—Ä, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —É—Ç—Ä–∞—Ç—É –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª–µ–Ω, –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –≥–æ—Ä–¥–æ—Å—Ç—å—é –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ [6].
–í —Å–µ–º—å–µ –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∞ –∏ –ú–∞—Ä–∏–∏ –ö–æ—Å–∞—á–µ–π —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤–∞–ª–æ–º –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ –≥–æ–¥ —Ä–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Å–µ–º–µ—Ä–æ –¥–µ—Ç–µ–π, —Ç—Ä–æ–µ –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —É–º–µ—Ä–ª–æ –≤ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ, –∞ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ü–µ—Ç—Ä, –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π, –ï–ª–µ–Ω–∞ –∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã–π —Å–ª–µ–¥ –≤ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–µ, –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ –∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ-–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.
15 –Ω–æ—è–±—Ä—è 1848 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ —Ä–µ–±–µ–Ω–∫–∞, —É–º–µ—Ä–ª–∞ –ú–∞—Ä–∏—è –°—Ç–µ–ø–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ –ß–µ—Ä–Ω—è–≤—Å–∫–∞—è-–ö–æ—Å–∞—á. –ü–æ—Å–ª–µ –µ–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –ø—Ä–∏—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –¥–µ—Ç–µ–π (–¥–≤—É—Ö –º–∞–ª—å—á–∏–∫–æ–≤ –∏ –¥–≤—É—Ö –¥–µ–≤–æ—á–µ–∫ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–æ–º –æ—Ç –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞ –¥–æ —Å–µ–º–∏ –ª–µ—Ç) –≤–∑—è–ª–∞—Å—å –µ–µ —Å—Ç–∞—Ä—à–∞—è —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ — –ü—Ä–∞—Å–∫–æ–≤—å—è –°—Ç–µ–ø–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ –ß–µ—Ä–Ω—è–≤—Å–∫–∞—è.
–î–æ—á—å –ü–µ—Ç—Ä–∞ –û–ª—å–≥–∞ –ö–æ—Å–∞—á-–ö—Ä–∏–≤–∏–Ω—é–∫ –ø–∏—Å–∞–ª–∞ –≤ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è—Ö: «–ò –Ω–∞—à –æ—Ç–µ—Ü, –∏ –µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç—å—è –∏ —Å–µ—Å—Ç—Ä—ã –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∏ —ç—Ç—É —Å–≤–æ—é —Ç–µ—Ç—é —Å –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –ª—é–±–æ–≤—å—é –∏ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –∫–∞–∫ —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ —É–º–Ω—É—é, –¥–æ–±—Ä—É—é, —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤—É—é, –ª–∞—Å–∫–æ–≤—É—é –∏ —Å —Å–∏–ª—å–Ω—ã–º —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–æ–º. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Ç–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –∏ –µ–µ –º–ª–∞–¥—à–∞—è —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞, –Ω–∞—à–∞ –±–∞–±—É—à–∫–∞, —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –ø–æ —Ç–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º –∏ —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∞ —É —Å–µ–±—è –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –ø–∞–Ω—Å–∏–æ–Ω –¥–ª—è –¥–µ–≤–æ—á–µ–∫. –í —Ç–æ–º –ø–∞–Ω—Å–∏–æ–Ω–µ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ—Ç–∏–Ω—ã–º–∏ —É—á–µ–Ω–∏—Ü–∞–º–∏ –Ω–∞—à –æ—Ç–µ—Ü –ø–æ–ª—É—á–∏–ª —Å–≤–æ–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ» [3].
–ü—Ä–∞—Å–∫–æ–≤—å—è –°—Ç–µ–ø–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª–∞ –¥–µ—Ç—è–º –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∞ –ü–µ—Ç—Ä—É, –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏—é, –ï–ª–µ–Ω–µ –∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–µ –º–∞—Ç—å –∏ –¥–∞–ª–∞ –∏–º –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∑–Ω–∞–Ω–∏—è.
–°—Ç–∞—Ä—à–∏–π —Å—ã–Ω –ü–µ—Ç—Ä –ö–æ—Å–∞—á –ø–æ—Å–ª–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤ –ø–∞–Ω—Å–∏–æ–Ω–µ —Ç–µ—Ç—É—à–∫–∏, –æ–±—É—á–∞–ª—Å—è –≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥–∏–º–Ω–∞–∑–∏–∏, –≥–¥–µ –ø—Ä–æ–¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ –º–∞—Ç–µ–º–∞—Ç–∏–∫–µ, –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ. –ü–æ—Å—Ç—É–ø–∏–≤ –ø–æ—Å–ª–µ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è –≥–∏–º–Ω–∞–∑–∏–∏ –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–∏–π —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç, –ü–µ—Ç—Ä –ø—Ä–∏–Ω—è–ª —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∑–∞ —á—Ç–æ –µ–≥–æ –∏—Å–∫–ª—é—á–∏–ª–∏ —Å–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –∫—É—Ä—Å–∞.
–û–Ω –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–∂–∞–µ—Ç –≤ –ö–∏–µ–≤, –≥–¥–µ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞–µ—Ç –Ω–∞ —é—Ä–∏–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Ñ–∞–∫—É–ª—å—Ç–µ—Ç —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç–∞ –°–≤—è—Ç–æ–≥–æ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞. –ü–æ—Å–ª–µ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç–∞, –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª –¥–∏—Å—Å–µ—Ä—Ç–∞—Ü–∏—é –∏ –≤ 1864 –≥–æ–¥—É –µ–º—É –ø—Ä–∏—Å–≤–∞–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è —É—á–µ–Ω–∞—è —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω—å –∫–∞–Ω–¥–∏–¥–∞—Ç–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è.
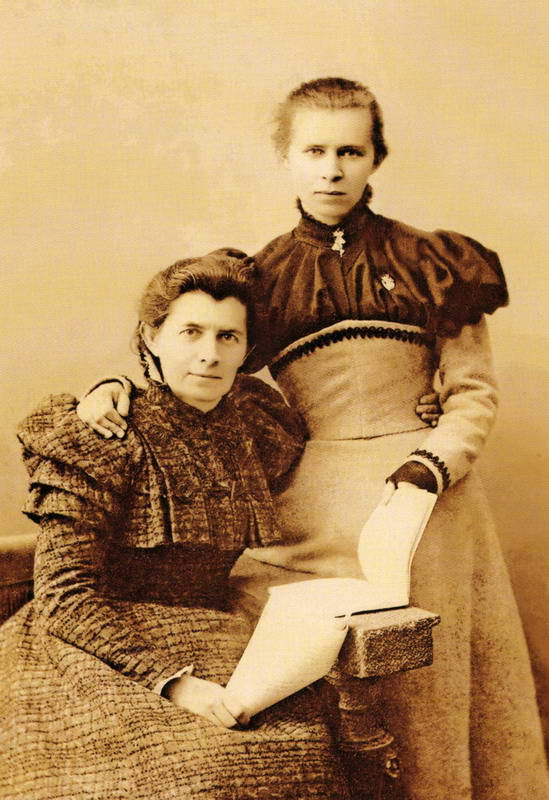 –í 1867 –≥–æ–¥—É –º–æ–ª–æ–¥–æ–π —É—á–µ–Ω—ã–π –∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—Å—è —Å —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π —Å–≤–æ–µ–≥–æ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –î—Ä–∞–≥–æ–º–∞–Ω–æ–≤–∞ –≤—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏—Ü–µ–π –ö–∏–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –¥–µ–≤–∏—Ü –û–ª—å–≥–æ–π –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω–æ–π –î—Ä–∞–≥–æ–º–∞–Ω–æ–≤–æ–π, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤ 1868 –≥–æ–¥—É –∂–µ–Ω–∏—Ç—Å—è. –ß–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞ —É –Ω–∏—Ö —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –¥–æ—á—å –õ–∞—Ä–∏—Å–∞, –±—É–¥—É—â–∞—è –≤–µ–ª–∏–∫–∞—è –ø–æ—ç—Ç–µ—Å—Å–∞ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ – –õ–µ—Å—è –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∞.
–í 1867 –≥–æ–¥—É –º–æ–ª–æ–¥–æ–π —É—á–µ–Ω—ã–π –∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—Å—è —Å —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π —Å–≤–æ–µ–≥–æ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –î—Ä–∞–≥–æ–º–∞–Ω–æ–≤–∞ –≤—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏—Ü–µ–π –ö–∏–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –¥–µ–≤–∏—Ü –û–ª—å–≥–æ–π –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω–æ–π –î—Ä–∞–≥–æ–º–∞–Ω–æ–≤–æ–π, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤ 1868 –≥–æ–¥—É –∂–µ–Ω–∏—Ç—Å—è. –ß–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞ —É –Ω–∏—Ö —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –¥–æ—á—å –õ–∞—Ä–∏—Å–∞, –±—É–¥—É—â–∞—è –≤–µ–ª–∏–∫–∞—è –ø–æ—ç—Ç–µ—Å—Å–∞ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ – –õ–µ—Å—è –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∞.
–û–ª—å–≥–∞ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω–∞ –∏ –õ–µ—Å—è –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∞
–ù–∞ –í–æ–ª—ã–Ω–∏ –ü–µ—Ç—Ä –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º —Å—ä–µ–∑–¥–∞ –º–∏—Ä–æ–≤—ã—Ö –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤, –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º–∏. –ê–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫ –≤ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∏ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –ü–µ—Ç—Ä –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á –±—ã–ª –∑–Ω–∞–∫–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ–≥–∏–º–∏ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∏ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, –¥–∞–≤–∞–ª –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –Ω–∞ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫–∞ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –ø–µ—Å–µ–Ω, —è–≤–ª—è–ª—Å—è —á–ª–µ–Ω–æ–º –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ «–£–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∞—è –ì—Ä–æ–º–∞–¥–∞», —Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–µ–π —Å–≤–æ–µ–π —Ü–µ–ª—å—é –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ.
–°–ª—É–∂–∏–ª—ã–π –¥–≤–æ—Ä—è–Ω–∏–Ω, –Ω–µ –∏–º–µ—é—â–∏–π –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –±–æ–≥–∞—Ç—Å—Ç–≤, –æ–Ω —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–∏—Ä—É–µ—Ç –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö —Ç—Ä—É–¥–æ–≤ —Å–≤–æ–µ–π –∂–µ–Ω—ã –û–ª—å–≥–∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω—ã –î—Ä–∞–≥–æ–º–∞–Ω–æ–≤–æ–π (–ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–π –ø—Å–µ–≤–¥–æ–Ω–∏–º –û–ª–µ–Ω–∞ –ü—á–∏–ª–∫–∞), –∞, –≤–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏, –∏ —Å–≤–æ–µ–π –¥–æ—á–µ—Ä–∏ –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏.
–ü–æ-—É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏ –ü–µ—Ç—Ä –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –∏ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –∂–∏–∑–Ω–∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª —Å–ª–µ–¥—ã —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö —Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç. –û–Ω —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∏–∑—É—á–∏–ª –º–µ—Å—Ç–Ω—É—é —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏—á—å—é –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫—É—é —Å—Ä–µ–¥—É. –¢—Ä–µ–∑–≤—ã–π –∏ –æ—Å—Ç—Ä–æ—É–º–Ω—ã–π, –æ–Ω –±—ã–ª –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–æ–º –∏—Ä–æ–Ω–∏–∏ –∏ —Å–∞—Ä–∫–∞–∑–º–∞ – –µ–≥–æ –º–µ—Ç–∫–∏–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∏ –∏ –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏—è –º–Ω–æ–≥–æ–∫—Ä–∞—Ç–Ω–æ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–ª–∏—Å—å –∏ –∏–º–µ–ª–∏ —à–∏—Ä–æ–∫–æ–µ —Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –≤ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ [7].
–í –µ–≥–æ –¥–æ–º–µ –Ω–∞ –í–æ–ª—ã–Ω–∏ —á–∞—Å—Ç–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–∏, —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∏ –∏ –º—É–∑—ã–∫–∞–Ω—Ç—ã, —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –∏ –¥–æ–º–∞—à–Ω–∏–µ –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä—Ç—ã. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ —Ç–∞ —Å—Ä–µ–¥–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –±—É–¥—É—â–∞—è –ø–æ—ç—Ç–µ—Å—Å–∞ –∏ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∞ –õ–µ—Å—è –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∞.
–ë—Ä–∞—Ç –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á («–¥—è–¥—è –ì—Ä–∏—à–∞» –¥–ª—è –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏) —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è 28 –Ω–æ—è–±—Ä—è 1843 –≥.
–ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á –ö–æ—Å–∞—á
–û–Ω —Å—Ç–∞–ª —é—Ä–∏—Å—Ç–æ–º –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –¥–≤—É—Ö —Å—É–¥–µ–±–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–≤–æ–≤ –≤ –ù–æ–≤–æ–≥—Ä–∞–¥–µ-–í–æ–ª—ã–Ω—Å–∫–æ–º, –º–∏—Ä–æ–≤—ã–º –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–∫–æ–º –≤ –ü–æ–ª–æ–Ω–Ω–æ–º –≤–æ–ª–æ—Å—Ç–Ω–æ–º —Å—É–¥–µ, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª —á–ª–µ–Ω–æ–º –ø–æ–ø–µ—á–∏—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –ø–æ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É –ö—Ä–µ—Å—Ç–æ-–í–æ–∑–¥–≤–∏–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ –ü–æ–ª–æ–Ω–Ω–æ–º.
–° 1900 –≥–æ–¥–∞, –ø–æ—Å–ª–µ –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –ø–µ–Ω—Å–∏—é, –ø–æ—Å–µ–ª–∏–ª—Å—è –≤ –ö–∏–µ–≤–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤ –Ω–æ—á—å —Å 17 –Ω–∞ 18 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1907 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ö–∏–µ–≤–µ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–ª–∏ –õ–µ—Å—é –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫—É –∏ –µ–µ —Å–µ—Å—Ç—Ä—É –û–ª—å–≥—É –∏ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –∏—Ö –≤ –ø–æ–ª–∏—Ü–µ–π—Å–∫–æ–µ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ, —Å—Ç–∞—Ç—Å–∫–∏–π —Å–æ–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫ –≤ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∫–µ –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π –ö–æ—Å–∞—á, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π «–Ω–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–µ –∏–º–µ–ª, –∏ –Ω–µ –∏–º–µ–ª –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫—Ü–∏—è—Ö –≤ –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö —Å—Ñ–µ—Ä–∞—Ö», –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —É—Ç—Ä–æ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –≤—ã—Ä—É—á–∞—Ç—å –ø–ª–µ–º—è–Ω–Ω–∏—Ü. –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π –ö–æ—Å–∞—á —É–º–µ—Ä –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ «–ü–∞—Å–µ–∫–∞» –≤–æ–∑–ª–µ –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ [8, 9].
–°—Ç–∞—Ä—à–∞—è –¥–æ—á—å –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∞ –ï–ª–µ–Ω–∞ («—Ç–µ—Ç—è –ï–ª—è») – –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∞ –∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å – —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å 21 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1845 –≥. –û–Ω–∞ –∞–≤—Ç–æ—Ä —Ä—è–¥–∞ —é–º–æ—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∏ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤ –∏ —Å—Ç–∏–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –ø–æ–¥ –¢. –®–µ–≤—á–µ–Ω–∫–æ –ø–æ—ç–º—ã-–±—ã–ª–∏–Ω—ã «–ì–∞–Ω–Ω–∞».

–ï–ª–µ–Ω–∞ –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–Ω–∞ –ö–æ—Å–∞—á
–í 1876 –≥–æ–¥—É –ï–ª–µ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–ª–∞—Å—å –∫ –¥–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏—é –ø–æ –¥–µ–ª—É –æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–º –∫—Ä—É–∂–∫–µ –≤ –ï–ª–∏–∑–∞–≤–µ—Ç–≥—Ä–∞–¥–µ, –≤—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –µ–µ —Å–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è –±–µ–≥—Å—Ç–≤—É –∑–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É –ê–Ω. –ú. –ú–∞–∫–∞—Ä–µ–≤–∏—á, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –æ–Ω–∞ —Å–Ω–∞–±–¥–∏–ª–∞ –ø–∞—Å–ø–æ—Ä—Ç–æ–º —Å–≤–æ–µ–π —Å–µ—Å—Ç—Ä—ã –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä—ã. –í 1877 –≥–æ–¥—É, —Å–æ—Å—Ç–æ—è –ø–æ–¥ –Ω–∞–¥–∑–æ—Ä–æ–º, –∑–∞–≤–µ–¥–æ–≤–∞–ª–∞ –ø—Ä–∏—é—Ç–æ–º –¥–ª—è –¥–µ—Ç–µ–π —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö. –ü–æ –≤—ã—Å—à–µ–º—É –ø–æ–≤–µ–ª–µ–Ω–∏—é 26 –∏—é–ª—è 1878 –≥–æ–¥–∞ –¥–µ–ª–æ –æ –Ω–µ–π –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–µ–Ω–æ –∑–∞ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–æ–º —É–ª–∏–∫.
–ó–∏–º–æ–π 1878 – 1879 –≥–≥. –∂–∏–ª–∞ –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –∞–∫—É—à–µ—Ä–∫–æ–π –≤ –ö–∞–ª–∏–Ω–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–π –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ. –ê—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω–∞ –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ –ø–æ—Å–ª–µ 13 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1879 –≥–æ–¥–∞ –≤ —Å–≤—è–∑–∏ —Å –ø–æ–∫—É—à–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–∞ —à–µ—Ñ–∞ –∂–∞–Ω–¥–∞—Ä–º–æ–≤ –î—Ä–µ–Ω—Ç–µ–ª—å–Ω–∞. –ù–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≤ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–∏ –≤ –õ–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–º —Ç—é—Ä–µ–º–Ω–æ–º –∑–∞–º–∫–µ.
–í –≤–∏–¥—É –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø–æ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—é –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏—Ö –¥–µ–ª –æ—Ç 21 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1879 –≥–æ–¥–∞ –≤—ã—Å–ª–∞–Ω–∞ –∏–∑ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–∞ –≤ –û–ª–æ–Ω–µ—Ü–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é –ø–æ–¥ –≥–ª–∞—Å–Ω—ã–π –Ω–∞–¥–∑–æ—Ä –ø–æ–ª–∏—Ü–∏–∏. –° 8 –º–∞—è 1879 –≥–æ–¥–∞ –≤–æ–¥–≤–æ—Ä–µ–Ω–∞ –≤ –ü—É–¥–æ–∂–µ, –≥–¥–µ –ø—Ä–æ–±—ã–ª–∞ –¥–æ 1881 –≥–æ–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ –ø–æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –û—Å–æ–±–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏—è –≤—ã—Å–ª–∞–Ω–∞ –≤ –ó–∞–ø–∞–¥–Ω—É—é –°–∏–±–∏—Ä—å –Ω–∞ –ø—è—Ç—å –ª–µ—Ç. –ñ–∏–ª–∞ –≤ –¢–æ–±–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –¢—é–º–µ–Ω—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –º—É–∂–µ–º –ù.–í.–¢–µ—Å–ª–µ–Ω–∫–æ-–ü—Ä–∏—Ö–æ–¥—å–∫–æ.
–î—Ä—É–∂–±–∞ —Å –Ω–µ–π –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã–π —Å–ª–µ–¥ –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –∏ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–µ –ø–æ—ç—Ç–µ—Å—Å—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è, —É–∑–Ω–∞–≤ –æ –≤—ã—Å—ã–ª–∫–µ «—Ç–µ—Ç–∏ –ï–ª–∏», –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∞ —Å–≤–æ–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–µ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ — «–ù–∞–¥–µ–∂–¥–∞», –∞ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏–ª–∞ –µ–π —Å–≤–æ–µ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ «–ó–∞–±—ã—Ç—ã–µ —Å–ª–æ–≤–∞» [10].
–ú–ª–∞–¥—à–∞—è –¥–æ—á—å –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å 30 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1847 –≥. –ë—ã–ª–∞ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–π —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ–π –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ. –ú–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è –õ–∞—Ä–∏—Å–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –µ—ë "—Ç—ë—Ç—è –°–∞—à–∞", –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –æ–Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π —É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ–π –º—É–∑—ã–∫–∏ –ø–æ—ç—Ç–µ—Å—Å—ã.
–í 1876 –≥. –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞–º—É–∂ –∑–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ë–æ—Ä–∏—Å–∞ –ê—Ñ–∞–Ω–∞—Å—å–µ–≤–∏—á–∞, —Ä–æ–¥–∏–ª–∞ –¥–≤–æ–∏—Ö —Å—ã–Ω–æ–≤–µ–π ––ê–Ω—Ç–æ–Ω–∞ (1877) –∏ –ü–∞–≤–ª–∞ (1878).
–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–ª—Ä–∞ –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–Ω–∞ —Å –≤–Ω—É–∫–æ–º –ü–∞–≤–ª–∞ –ì–ª–µ–±–æ–º. –§–æ—Ç–æ –∏–∑ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞ –Ý–æ–±–µ—Ä—Ç–æ –ì–∞–∞–±–∞, 1906 –≥.
–ú—É–∂ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä—ã –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–Ω—ã, –∫—Ä–µ—â–µ–Ω—ã–π –µ–≤—Ä–µ–π –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –ë–æ—Ä–∏—Å –ê—Ñ–∞–Ω–∞—Å—å–µ–≤–∏—á – —Å—ã–Ω –º–µ—à–∞–Ω–∏–Ω–∞, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–≤—à–µ–≥–æ –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–æ–º –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä–∞ –≤ –≥. –õ—É—Ü–∫–µ – —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –æ–∫–æ–ª–æ 1849 –≥. –≤ –≥. –¢–∞—Ä–∞—â–µ (–ö–∏–µ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏), –≥–¥–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ. –î–æ 1879 –≥. –∂–∏–ª –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ, –¥–∞–≤–∞—è —É—Ä–æ–∫–∏, –∑–∞–Ω–∏–º–∞—è—Å—å –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º –∏ –∞–¥–≤–æ–∫–∞—Ç—É—Ä–æ—é, –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª—Å—è —É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–≤, –∫–∞–∫ –∏ —Å–∞–º–∞ "—Ç—ë—Ç—è –°–∞—à–∞".
–ê—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ –≤ 1879 –≥. —É –∑–¥–∞–Ω–∏—è –õ–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞–º–∫–∞ –∑–∞ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã "—É—Å–ª–æ–≤–Ω—ã–º–∏ –∑–Ω–∞–∫–∞–º–∏" —Å –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω–æ—é –ï–ª–µ–Ω–æ—é –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–Ω–æ–π –ö–æ—Å–∞—á –∏ –ø–æ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—é –ø–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–≥–æ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª-–≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–∞ –±—ã–ª –≤—ã—Å–ª–∞–Ω –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É. –ñ–∏–ª –≤ –ö–∏–µ–≤–µ, –≥–¥–µ –±—ã–ª –±–ª–∏–∑–æ–∫ –∫ –∫–∏–µ–≤—Å–∫–æ–º—É —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–º—É –∫—Ä—É–∂–∫—É –∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ —Å–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è—Ö —Å —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–µ–π –≥–∞–∑–µ—Ç—ã "–ó–µ–º–ª—è –∏ –í–æ–ª—è". –í—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–µ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—é –∫–∏–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª-–≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–∞ –≤ –º–∞—Ä—Ç–µ 1880 –≥. –≤—ã—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–¥ –Ω–∞–¥–∑–æ—Ä –ø–æ–ª–∏—Ü–∏–∏ –≤ –í–æ–ª–æ–≥–æ–¥—Å–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é. –í–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤–æ–ª–æ–≥–æ–¥—Å–∫–æ–π —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –±—ã–ª –∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–æ–º "–Ý—É—Å—Å–∫–∏—Ö –í–µ–¥–æ–º–æ—Å—Ç–µ–π". –ó–∞—Ç–µ–º 12 –æ–∫—Ç—è–±—Ä—è 1881 –≥. –±—ã–ª –ø–µ—Ä–µ–º–µ—â–µ–Ω —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤ –ê—Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º —Å 1883 –≥. —Å–ª—É–∂–∏–ª –ø–∏—Å—å–º–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –≤ –ê—Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫–æ–π –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π —É–ø—Ä–∞–≤–µ. –ü–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏–∏ —Å—Ä–æ–∫–∞ —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω –æ—Ç –≥–ª–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞–¥–∑–æ—Ä–∞ —Å –≤–æ—Å–ø—Ä–µ—â–µ–Ω–∏–µ–º –∂–∏—Ç—å –≤ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü–∞—Ö –∏ –≤ –ö–∏–µ–≤–µ. –í—ã–µ—Ö–∞–ª –≤ –ö—É—Ä—Å–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é, –≥–¥–µ —É –Ω–µ–≥–æ –≤—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–µ –æ–±—â–µ–Ω–∏—è —Å –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω—ã–º–∏ –ª–∏—Ü–∞–º–∏ –≤ 1884 –≥. –±—ã–ª –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω –æ–±—ã—Å–∫ [11,12].
–ü–æ—Å–ª–µ —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –º—É–∂–∞ –≤ 1880 –≥–æ–¥—É –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Å—ã–Ω–æ–≤—å—è–º–∏ - –¥–≤–æ—é—Ä–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –±—Ä–∞—Ç—å—è–º–∏ –õ–µ—Å–∏, –∂–∏–ª–∞ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –≤ —Å–µ–º—å–µ –µ–µ –æ—Ç—Ü–∞, —Å–≤–æ–µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞ –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á–∞, –≤ —Å. –ö–æ–ª–æ–¥—è–∂–Ω–æ–º –æ–∫–æ–ª–æ –ö–æ–≤–µ–ª—è.
–û—Ç–µ—Ü –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä—ã –≤—ã–¥–µ–ª–∏–ª —Å–≤–æ–µ–π –¥–æ—á–µ—Ä–∏ –æ–∫–æ–ª–æ 40 –¥–µ—Å—è—Ç–∏–Ω –∑–µ–º–ª–∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –∫—É—Å–∫–µ –º–µ–∂–¥—É –ú–≥–ª–∏–Ω–æ–º –∏. –°—Ç–∞—Ä—ã–º–∏ –ß–µ—à—É–π–∫–∞–º–∏. –ó–¥–µ—Å—å —Å 1885 –≥. –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –æ–±—É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–µ–º—å—è –ë–æ—Ä–∏—Å–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤ 1890 –≥–æ–¥—É –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–∂–∞–µ—Ç —Å—é–¥–∞ –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –¢–∞–∫, –≤–æ–∑–ª–µ –°—Ç–∞—Ä—ã—Ö –ß–µ—à—É–µ–∫, –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–æ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ —Å –æ–¥–Ω–∏–º –¥–≤–æ—Ä–æ–º, –ø–æ–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ —Ö—É—Ç–æ—Ä–æ–º –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—Ç–∞–ª —Ä–æ–¥–∏–Ω–æ–π –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –°–æ–≤–µ—Ç–∞ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ –ü–∞–≤–ª–∞ –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–∏—á–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–≤—à–µ–≥–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Å—É–¥—å–±—É –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è, –Ω–æ –∏ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏. –û—Ç—Å—é–¥–∞ –æ–Ω —É–µ–∑–∂–∞–ª –Ω–∞ —É—á–µ–±—É, —Å—é–¥–∞ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –∫–∞–Ω–∏–∫—É–ª—ã, –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª—Å—è —Å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏, —É—á–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏, –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å—é.
–° 1890 –ø–æ 1891 –≥. –µ–≥–æ –æ—Ç–µ—Ü –ë–æ—Ä–∏—Å –ê—Ñ–∞–Ω–∞—Å—å–µ–≤–∏—á —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª —á–∞—Å—Ç–Ω—ã–º –ø–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–º —Å—É–¥–µ –∏ –≤—ë–ª —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –õ—É—Ü—ã. –ü–æ –æ—Ç–∑—ã–≤—É –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–∞ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∂–∞–Ω–¥–∞—Ä–º—Å–∫–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è (1891 –≥.) –±—ã–ª "–ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞–∑–∞ –º—ã—Å–ª–µ–π", –æ–±—â–∞–ª—Å—è —Å –ª–∏—Ü–∞–º–∏ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω—ã–º–∏, –Ω–æ –æ—Ç–æ—à–µ–ª –æ—Ç –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –±–æ—Ä—å–±—ã. –°–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è –≤ 1891 –≥. –≤ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ –æ–∫–æ–ª–æ 42 –ª–µ—Ç.
–ü–∞–≤–µ–ª –∏ –ê–Ω—Ç–æ–Ω –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–µ, —Å. –ö–æ–ª–æ–¥—è–∂–Ω–æ–µ. –§–æ—Ç–æ –∏–∑ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞ –Ý–æ–±–µ—Ä—Ç–æ –ì–∞–∞–±–∞, 1885 –≥.
–ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ, —á—Ç–æ "—Ç—ë—Ç—è –°–∞—à–∞", —Å–∞–º–∞—è "—É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–∞—è" –∏–∑ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö —Ç—ë—Ç–æ–∫ –õ–∞—Ä–∏—Å—ã, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –≤—ã—Ä–∞—Å—Ç–∏–ª–∞ –¥–≤—É—Ö —Å—ã–Ω–æ–≤–µ–π (–¥–≤–æ—é—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏), –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –≤–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∞–º–∏. –ê–Ω—Ç–æ–Ω –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è—Ö 1905 –≥–æ–¥–∞, –±—ã–ª –∑–∞–∫–ª—é—á—ë–Ω –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫—É—é –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç—å, –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ —ç–º–∏–≥—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –≤ –®–≤–µ–π—Ü–∞—Ä–∏—é. –ê –ü–∞–≤–µ–ª –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤ 1917 –≥–æ–¥—É —Å—Ç–∞–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–º –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö, —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–æ–≤ [11].
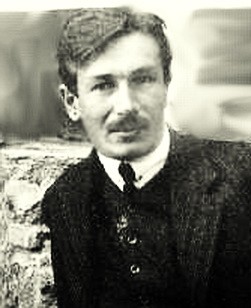
–ü–æ—Å–ª–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –æ—Ç—Ü–∞ –ê–Ω—Ç–æ–Ω –∏ –ü–∞–≤–µ–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∂–∏–ª–∏ –≤ —Å. –ö–æ–ª–æ–¥—è–∂–Ω–æ–º (–≤–æ–∑–ª–µ –ö–æ–≤–µ–ª—è) –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –¥—è–¥–∏ –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –ö–æ—Å–∞—á–∞. –í 1900 –≥. –æ–Ω–∏ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏ –£–º–∞–Ω—Å–∫–æ–µ —É—á–∏–ª–∏—â–µ –∑–µ–º–ª–µ–¥–µ–ª–∏—è –∏ —Å–∞–¥–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ (–Ω—ã–Ω–µ –£–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–π —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç —Å–∞–¥–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ –≤ –ß–µ—Ä–∫–∞—Å—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏) [13] .
–ê–Ω—Ç–æ–Ω –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π. –§–æ—Ç–æ –∏–∑ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞ –Ý–æ–±–µ—Ä—Ç–æ –ì–∞–∞–±–∞, 1910
–ê–Ω—Ç–æ–Ω –ø–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏–∏ –£–º–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—á–∏–ª–∏—â–∞ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª –Ω–∞ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –Ý–æ–º–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª–∏—Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫—É–º–∞, –ø—Ä–æ—Å–ª—É—à–∞–ª –ø–æ–ª–Ω—ã–π –∫—É—Ä—Å, —Å–¥–∞–ª –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ —ç–∫–∑–∞–º–µ–Ω—ã –∏ –≤—Å–µ —É–ø—Ä–∞–∂–Ω–µ–Ω–∏—è, –Ω–æ –ø—Ä–∏—à–µ–ª 1905 –≥–æ–¥, –∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ –∑–∞—â–∏—Ç–µ –¥–∏–ø–ª–æ–º–Ω–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –±—ã–ª –æ—Ç–ª–æ–∂–µ–Ω.
–í 1906 –≥–æ–¥—É –ê–Ω—Ç–æ–Ω –±—ã–ª –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω –≤ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã “–ù–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ”, –∏ —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –Ω–∞—à–ª–∏ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã, –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—â–∏–µ, —á—Ç–æ –æ–Ω –±—ã–ª –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–º –Ω–∞ –≤—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–º —Å—ä–µ–∑–¥–µ —É—á–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π –ø–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–º—É –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—é, —Ç–æ –µ–≥–æ –ø–æ—Å–ª–µ –≥–æ–¥–æ–≤–æ–≥–æ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è —Å—É–¥–∏–ª–∏ – –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –∫ –¥–≤—É–º –≥–æ–¥–∞–º –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–∏ [14]
–û—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–æ–¥ –∑–∞–ª–æ–≥, –ê–Ω—Ç–æ–Ω, –º–µ—á—Ç–∞–≤—à–∏–π –æ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–∏ –≤ –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏—é —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤, –≤–æ –∏–∑–±–µ–∂–∞–Ω–∏–µ –∞—Ä–µ—Å—Ç–∞ —É–µ—Ö–∞–ª –≤ –®–≤–µ–π—Ü–∞—Ä–∏—é, –≥–¥–µ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏–ª –≥—Ä—É–ø–ø–æ–π «–º–∞—Ä–∫—Å–∏—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö —ç—Å–µ—Ä–æ–≤», –∞ –Ω–∞ V –°–æ–≤–µ—Ç–µ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤ –±—ã–ª –≤—ã–±—Ä–∞–Ω —á–ª–µ–Ω–æ–º –¶–ö. –ù–∞–ø–∏—Å–∞–ª —Å–µ—Ä–∏—é —Å—Ç–∞—Ç–µ–π –ø–æ–¥ –æ–±—â–∏–º –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º "–ë–æ–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã"(1910-1912), –≥–¥–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω–æ –∏–∑–ª–∞–≥–∞–ª —Å–≤–æ–∏ –≤–∑–≥–ª—è–¥—ã –ø–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º –≤–æ–∑–Ω–∏–∫—à–µ–≥–æ –≤ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤ –∫—Ä–∏–∑–∏—Å–∞, –≤—ã–Ω–æ—Å–∏–ª –±–µ–∑–∞–ø–µ–ª–ª—è—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä—É. –î–æ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 1917 –≥. –æ–Ω –∂–∏–ª —Å —Å–µ–º—å–µ–π –≤ –ë–µ—Ä–Ω–µ, –≤—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –æ–±—â–µ—à–≤–µ–π—Ü–∞—Ä—Å–∫—É—é –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—é —ç–º–∏–≥—Ä–∞–Ω—Ç–æ–≤-–æ–±–æ—Ä–æ–Ω—Ü–µ–≤, –∞ –ø–æ –ø—Ä–∏–µ–∑–¥–µ –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥ –≤ –∏—é–ª–µ 1917 –≥. –æ—Ç –µ–µ –∏–º–µ–Ω–∏ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –æ—Ç –í.–ú.–ß–µ—Ä–Ω–æ–≤–∞ —É—Ö–æ–¥–∞ –∏–∑ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –∫–∞–∫ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º "–Ω–æ–≤–æ–∏—Å–ø–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ" –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∞ [15].
 –ü–∞–≤–µ–ª –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è —Å –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é –¥–æ–º–∞ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –ø–æ —Å–≤–æ–µ–π —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ. –ó–∞—Ç–µ–º –≤ –Ý–∏–≥–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –≤—ã—Å—à–µ–µ –∞–≥—Ä–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ, –Ω–æ –ø–æ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—é —á–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ, –∫–∞–∫ –∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω—ã–π. –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–µ –∂–∞–Ω–¥–∞—Ä–º—Å–∫–æ–µ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –¥–æ–Ω–æ—Å–∏–ª–æ –≤ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é –æ –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ü–∞–≤–ª–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –µ—â–µ –¥–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ 1905—1907 –≥–æ–¥–æ–≤.
–ü–∞–≤–µ–ª –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è —Å –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é –¥–æ–º–∞ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –ø–æ —Å–≤–æ–µ–π —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ. –ó–∞—Ç–µ–º –≤ –Ý–∏–≥–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –≤—ã—Å—à–µ–µ –∞–≥—Ä–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ, –Ω–æ –ø–æ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—é —á–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ, –∫–∞–∫ –∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω—ã–π. –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–µ –∂–∞–Ω–¥–∞—Ä–º—Å–∫–æ–µ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –¥–æ–Ω–æ—Å–∏–ª–æ –≤ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é –æ –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ü–∞–≤–ª–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –µ—â–µ –¥–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ 1905—1907 –≥–æ–¥–æ–≤.
–ì–∏–º–Ω–∞–∑–∏—Å—Ç –ü–∞–≤–µ–ª –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π
–®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–º—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∫—Ä–∞–π, –æ–Ω —É–µ—Ö–∞–ª –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥ –∏ —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –∞–≥–µ–Ω—Ç–æ–º –≤ –ù–æ—Ä–≤–µ–∂—Å–∫–æ–µ –∫–æ–º–º–µ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ «–ì—É—Å—Ç–∞–≤ –°–∏–≤–µ—Ä—Å», –Ω–æ –Ω–µ –ø–æ—Ä—ã–≤–∞–ª —Å–≤—è–∑–∏ —Å —Ä–æ–¥–Ω—ã–º –∫—Ä–∞–µ–º: –±—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ, –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–µ–π —Ç–∞–π–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –≥—Ä—É–ø–ø –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ. –¢–∞–∫, –ø–æ –µ–≥–æ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–µ –≤ 1905-1906 –≥–≥. –≤ —Å–µ–ª–∞—Ö –î–µ–≥—Ç—è—Ä–µ–≤–∫–µ, –ù–∏–≤–Ω–æ–º, –Ý–æ–º–∞–Ω–æ–≤–∫–µ, –ß–µ—à—É–π–∫–∞—Ö –∏ –ù–µ—Ç—è–≥–æ–≤–∫–µ –±—ã–ª–∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω—ã —Ç–∞–π–Ω—ã–µ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª - –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –≥—Ä—É–ø–ø—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∏ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫—É—é —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—é.
–í 1907 –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Å—É–¥–∏–ª–∏ –∑–∞–æ—á–Ω–æ. –ï–º—É –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ —Ç—Ä–µ—Ö –ª–µ—Ç[16].
–í 1911 –≥–æ–¥—É —Å—Ä–æ–∫ –≤—ã—Å—ã–ª–∫–∏ –ü–∞–≤–ª–∞ –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–∏—á–∞ –∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Å–µ–º—å—è –ü–∞–≤–ª–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞ –≤—Å–µ –ª–µ—Ç–æ –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–µ—Ç –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω –∏ –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–∏–º —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ–º. –° 1912 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç—Å–∫–∞—è –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –æ–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–æ–º–æ—â–∏. –ü–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª—Å—è –∏ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª «–ö—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–µ –∑–µ–º–ª–µ–¥–µ–ª–∏–µ» –°. – –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–≥–æ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞, –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º –∏ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª –ü. –ë. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π.
–í –Ω–æ—è–±—Ä–µ 1914 –≥. –∂—É—Ä–Ω–∞–ª «–ö—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–µ –∑–µ–º–ª–µ–¥–µ–ª–∏–µ» –±—ã–ª –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç, –∏ –ü–∞–≤–µ–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∂–µ–Ω–æ–π –ê–Ω–Ω–æ–π –ú–æ–¥–µ—Å—Ç–æ–≤–Ω–æ–π –ú–∏—Ü–∫–µ–≤–∏—á (–∏–∑ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –ú–∏—Ü–∫–µ–≤–∏—á–µ–π), —Å—ã–Ω–æ–º –ì–ª–µ–±–æ–º (1906) –∏ –¥–æ—á–µ—Ä—å—é –ì–∞–ª–ª–∏ (1913) –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–µ –∂–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –≤ —Å–≤–æ–π —Ö—É—Ç–æ—Ä –≤–±–ª–∏–∑–∏ –°—Ç–∞—Ä—ã—Ö –ß–µ—à—É–µ–∫.
–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –õ—É—Ü—ã
–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –õ—É—Ü—ã – —ç—Ç–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –ø–æ–º–µ—â–∏—á—å—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ —Ç–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, —Å–æ—Å—Ç–æ—è—â–∞—è –∏–∑ –±–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞, —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ–π, –∫–æ–Ω—é—à–Ω–∏, –æ—Ä–∞–Ω–∂–µ—Ä–µ–∏, –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏ –¥–ª—è –ø—Ä–∏—Å–ª—É–≥–∏. –ö —É—Å–∞–¥—å–±–µ –ø—Ä–∏–º—ã–∫–∞–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤—ã–π —Å–∞–¥, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª—Å—è –ø—Ä—É–¥, –∞–ª–ª–µ–∏, –±–µ—Å–µ–¥–∫–∏, –≥—Ä–æ—Ç—ã –∏ –¥—Ä.
–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –ü–∞–≤–ª–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ. –ò–∑ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞ –í. –ù. –ì–æ—Ä–æ–¥–∫–æ–≤–∞, 1992 –≥.
–ü–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–æ—á–Ω–∞—è —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–∞ —É—Å–∞–¥—å–±—ã –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç –Ω–µ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–π —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫, –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–Ω—ã–π –¥–ª–∏–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –∫ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ —Ö—É—Ç–æ—Ä–∞. –¶–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º —É—Å–∞–¥—å–±—ã —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ø–æ–º–µ—â–∏—á–∏–π –¥–æ–º, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ. –ü–µ—Ä–µ–¥ –¥–æ–º–æ–º –±—ã–ª —Ä–∞–∑–º–µ—â–µ–Ω –±–æ–ª—å—à–æ–π —Ü–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫. –î–æ–º –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è –Ω–µ –æ–¥–∏–Ω –¥–µ—Å—è—Ç–æ–∫ –ª–µ—Ç: —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –±—ã–ª –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–º –∏–∑ –±—Ä–µ–≤–µ–Ω –±–µ–∑ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞, –∑–∞—Ç–µ–º –æ–±–ª–æ–∂–µ–Ω –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º –∫–∏—Ä–ø–∏—á–æ–º, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–±–µ–ª–µ–Ω [17].
–ü–æ –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—é –∂–∏—Ç–µ–ª—è –°—Ç–∞—Ä—ã—Ö –ß–µ—à—É–µ–∫ –ê–Ω–∞—Ç–æ–ª–∏—è –ú–∞—Ç–≤–∏–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –¥–æ–º, –≥–¥–µ –∂–∏–ª —Å–æ —Å–≤–æ–µ–π —Å–µ–º—å–µ–π –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π, –±—ã–ª –æ–¥–Ω–æ—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–π, —Å –≤–∞–ª—å–º–æ–≤–æ–π –∫—Ä–æ–≤–ª–µ–π –∫—Ä—ã—Ç–æ–π –∂–µ–ª–µ–∑–æ–º, –∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª –∏–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –æ–±—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–Ω–∞—Ç.
–ü–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏—è –¥–ª—è –ø—Ä–∏—Å–ª—É–≥–∏ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ, —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ–º. –í–¥–∞–ª–∏ –æ—Ç –¥–æ–º–∞ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª—Å—è —Ö–æ–∑–¥–≤–æ—Ä, –≤–∫–ª—é—á–∞–≤—à–∏–π —Å–∞—Ä–∞–π —Å –æ–≤–∏–Ω–æ–º, –∫–æ–Ω—é—à–Ω—é, —Å–∞—Ä–∞–π –¥–ª—è —Å–∫–æ—Ç–∞ –∏ –∫–æ–ª–æ–¥–µ—Ü..
–ü–ª–∞–Ω —É—Å–∞–¥–µ–±–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ü. –ë.
–ò—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–æ–≤ —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞ —É—Å–∞–¥–µ–±–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–µ—Ç –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å, —á—Ç–æ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –¥–æ–º–∞ –≤–µ–ª–æ—Å—å –≤ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —ç—Ç–∞–ø–æ–≤. –í–Ω–∞—á–∞–ª–µ –¥–æ–º –±—ã–ª –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π – 12 –º –≤ –¥–ª–∏–Ω—É –∏ 6 –º. –≤ —à–∏—Ä–∏–Ω—É, – –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –±—ã–ª –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–≤–µ–ª–∏—á–µ–Ω –≤ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞—Ö (–¥–æ 10—Ö22 –º.).
–î–æ–º —É–∫—Ä–∞—à–∞–ª–∏ –∏ –ø—Ä–∏–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç—Ä–∏ –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã—Ö –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–∞ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–º 4—Ö4 –º., –≤—ã—Ö–æ–¥—è—â–∏–µ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É, –≤ —Å–∞–¥ –∏ –∫ –≤—Å–ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏—è–º —É—Å–∞–¥—å–±—ã.
–ê–Ω–∞—Ç–æ–ª–∏–π –ú–∞—Ç–≤–∏–µ–≤—Å–∫–∏–π —Ç–∞–∫ –æ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç —É—Å–∞–¥—å–±—É –∏ –¥–æ–º –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –õ—É—Ü—ã.
«–≠—Ç–æ—Ç –¥–æ–º —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª –≤ –∏—é–ª–µ 1941 –≥–æ–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–∏ —Ç–∞–º –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞—à–∞ –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–∞—è —á–∞—Å—Ç—å, –∞ –≤ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ –≤ –¥–æ–º–µ —É–∂–µ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ–º—Ü—ã. –ú—ã, –ø–∞—Ü–∞–Ω—ã, –±–µ–≥–∞–ª–∏ –≤–æ–∑–ª–µ —Ç–µ—Ö –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö, –Ω–∞—Å –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–≥–æ–Ω—è–ª, –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç, –Ω–µ–º—Ü—ã –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞–º –∫–æ–µ-–∫–∞–∫–∏–µ –≥–æ—Å—Ç–∏–Ω—Ü—ã. –í —ç—Ç–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±–µ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—â–∏–º –±—ã–ª –º–æ–π –¥–≤–æ—é—Ä–æ–¥–Ω—ã–π –¥–µ–¥ –î–æ—Ä–æ—Ö–æ–≤ –ì–µ—Ä–∞—Å–∏–º –°–∞–≤–µ–ª—å–µ–≤–∏—á. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–µ –Ω–∞ —Ç—Ä–µ—Ö –∫–æ–ª—è—Å–∫–∞—Ö –∫–∞–∂–¥—ã–π –≥–æ–¥ –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª–∏ 1 –º–∞—è –Ω–∞ —Ü–µ–ª–æ–µ –ª–µ—Ç–æ –¥–æ 1 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è. –ü–µ—Ä–µ–¥ –ø—Ä–∏–µ–∑–¥–æ–º –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –¥—è–¥—è –º–æ–µ–π –º–∞–º—ã –ì–µ—Ä–∞—Å–∏–º –°–∞–≤–µ–ª—å–µ–≤–∏—á —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –∏—Ö –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏—Ö –¥–µ–≤–æ—á–µ–∫, –∏ –æ–Ω–∏ –ø–æ–¥–º–µ—Ç–∞–ª–∏ –¥–æ—Ä–æ–∂–∫–∏ –∏ –∞–ª–ª–µ–∏, –∑–∞ —á—Ç–æ –æ–Ω –ø–ª–∞—Ç–∏–ª –∏–º –∂–∞–ª–æ–≤–∞–Ω—å–µ, –¥–≤–µ –∫–æ–ø–µ–π–∫–∏ –≤ –¥–µ–Ω—å, –∏ –æ–Ω–∏ –ø–æ–∫—É–ø–∞–ª–∏ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–æ–π –ª–∞–≤–∫–µ –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç—ã.
–ù–æ –ª—É—á—à–µ –±—ã–ª–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–∞–Ω—ã 1 –º–∞—è –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª–∏ –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ –¥–µ—Ç–∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –¥—è–¥—é, —á—Ç–æ–±—ã –æ–Ω –±—Ä–∞–ª –∏—Ö –Ω–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É. –ò–º –æ—á–µ–Ω—å –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ –æ–¥–µ—Ç—ã—Ö –¥–µ—Ç–µ–π –∏ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã—Ö. –ò, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ –æ–¥–µ—Ç–∞—è —Ç–µ—Ç—è (–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞) –¥–∞–≤–∞–ª–∞ –∏–º –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç—ã. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ –¥–ª—è –Ω–∏—Ö.»
–ü—Ä–∏–µ–∑–∂–∞—è –Ω–∞ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∏–∑ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–∞ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω –ü. –ë. –®–∏–º–æ–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤—Å–µ –±–æ–ª—å—à–µ –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –≤ —Å–≤–æ–µ–º —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ, —Ä–∞–∑—ä—è—Å–Ω—è–µ—Ç –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ –∫–æ–æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏ –∏ –ø–æ–º–æ–≥–∞–µ—Ç –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞—Ç—å –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–Ω—ã–µ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –≤ –°–æ–∫–æ–ª–æ–≤–∫–µ, –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∫–µ, –Ý–∞–∑—Ä—ã—Ç–æ–º, –®—É–º–∞—Ä–æ–≤–µ, –ß–µ—à—É–π–∫–∞—Ö. –í 1913 –≥–æ–¥—É —ç—Ç–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–∏–ª–∏—Å—å –≤ –£–µ–∑–¥–Ω—ã–π –°–æ—é–∑ –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–Ω—ã—Ö —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤ —Å–∞–º–æ–º –Ω–∞—á–∞–ª–µ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –¥–µ–Ω–µ–∂–Ω—ã–º–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞–º–∏. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –Ω–∞ –ª—å–≥–æ—Ç–Ω—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö –±—Ä–∞–ª–∏ –≤ –°–æ—é–∑–µ –¥–µ–Ω–µ–∂–Ω—ã–µ –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç—ã –¥–ª—è –ø–æ–∫—É–ø–∫–∏ –∫–æ—Ä–æ–≤—ã, –ª–æ—à–∞–¥–∏, —Å–µ–ª—å—Ö–æ–∑–∏–Ω–≤–µ–Ω—Ç–∞—Ä—è.
–í—Å–µ —ç—Ç–∏ –∫–æ–æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–µ –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–π —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∫–∏. –í—ã—Å—Ç–∞–≤–∫–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –≤ 1912 –≥–æ–¥—É –≤–æ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ. –ö—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –∑–¥–µ—Å—å —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç—ã —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–æ—Å—Ç–∏–∂–µ–Ω–∏–π –≤ –∑–µ–º–ª–µ–¥–µ–ª–∏–∏ –∏ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –Ω–∞ –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∫–µ –∏–º–µ–ª —Å–≤–æ–π –ø–∞–≤–∏–ª—å–æ–Ω, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –≤ –Ω–µ–º —Å–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞ –≤ –õ—É—Ü–∞—Ö –∫–æ—Ä–Ω–µ–ø–ª–æ–¥—ã, —Ç—Ä–∞–≤—ã, –∑–µ—Ä–Ω–æ–≤—ã–µ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, –ª—É—á—à–∏–µ –ø–æ—Ä–æ–¥—ã –º–æ–ª–æ—á–Ω–æ–≥–æ —Å–∫–æ—Ç–∞. –í—ã—Å—Ç–∞–≤–∫–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ —Å –±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–æ–ª—å–∑–æ–π –¥–ª—è —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞ –≤ —É–µ–∑–¥–µ [16, 17].
–í—ã—Å—Ç–∞–≤–∫–∞ –¥–∞–ª–∞ —Å–≤–æ–∏ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç—ã: –≤ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞—Ö —Å—Ç–∞–ª –ø–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –ø–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã–π —Å–∫–æ—Ç, —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤—ã–µ —Å–µ–º–µ–Ω–∞.
–ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω —ç—Ç–æ–≥–æ —Ö—É—Ç–æ—Ä–∞ –±—ã–ª —Å–∞–º –ø–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—é —É—á–µ–Ω—ã–π –∞–≥—Ä–æ–Ω–æ–º, –∞ –ø–æ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏—á–Ω—ã–º –∏ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º, —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –Ω–∏—á–µ–º –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–æ—Å—å –æ—Ç –æ–±—ã—á–Ω—ã—Ö –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –∂–µ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞. –ü—Ä–∏—á–∏–Ω–æ–π —ç—Ç–æ–º—É –±—ã–ª–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å–∞–º —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –≤ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã, –±—É–¥—É—á–∏ –ø–æ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç—É –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–æ–±—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–º, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –Ω–∞ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—É –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ —É–ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–æ —Å–Ω–∞–±–∂–µ–Ω–∏—é –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –∞—Ä–º–∏–π —Ñ—É—Ä–∞–∂–æ–º –∏ —Å–∫–æ—Ç–æ–º, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É –∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞–ª—Å—è –æ—Ç –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞ –≤ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â—É—é –∞—Ä–º–∏—é. –ì–æ–≤–æ—Ä—è –∏–Ω–∞—á–µ, –±—ã–ª «–æ–±–æ—Ä–æ–Ω–µ—Ü», –∫–∞–∫ —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö –∞—Ä–º–µ–π—Å–∫–∏—Ö —Å–Ω–∞–±–∂–µ–Ω—Ü–µ–≤, –Ω–æ—Å—è—â–∏—Ö –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Ñ–æ—Ä–º—É —Å —ç–º–±–ª–µ–º–æ–π —Å–≤–æ–∏—Ö –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–µ–π –Ω–∞ –ø–æ–≥–æ–Ω–∞—Ö.
–ó–∞–Ω—è—Ç—ã–π —ç—Ç–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π, —Å–≤–æ–π —Ö—É—Ç–æ—Ä –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –ø–æ—Å–µ—â–∞–ª —Ä–µ–¥–∫–æ –∏ –∫—Ä–∞—Ç–∫–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –Ω–∞–µ–∑–¥–∞–º–∏. –ù–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –≤—Å–µ –¥–µ–ª–∞ –ø–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤—É –≤–µ–ª –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –±–ª–∏–∑–∫–∏–π –∫ –Ω–µ–º—É –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∏–Ω –∏–∑ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–π –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ –°—Ç–∞—Ä—ã—Ö –ß–µ—à—É–µ–∫ –ú–∞–∫—Å–∏–º –Ø–∫–æ–≤–ª–µ–≤–∏—á –í–µ—Ä–µ–º—å–µ–≤ [17].
–í 1915 –≥–æ–¥—É –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –õ—É—Ü—ã –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑—É–µ—Ç —Å–ª–µ—Ç –ø—á–µ–ª–æ–≤–æ–¥–æ–≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –∏ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–µ—Ç –≤ –Ω–µ–º —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ.
–£—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–∏ —Å–ª–µ—Ç–∞ –ø—á–µ–ª–æ–≤–æ–¥–æ–≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞, —Ñ–æ—Ç–æ 1915 –≥. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–º —Ä—è–¥—É – –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ.
–í 20-—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö –∏–º–µ–Ω–∏–µ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–æ, —Ç–∞–º –±—ã–ª–∞ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–∞ –∫–æ–º–º—É–Ω–∞, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º, –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 30-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤, —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–∏ –∑–µ–º–ª—é –ø–æ–¥ —É—Å–∞–¥—å–±—ã –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –¥–æ–º–∞. –¢–∞–∫ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–ª—Å—è —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Ö—É—Ç–æ—Ä –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π.
–í —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –¥–æ–º –±—ã–ª –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω –∫–∞–∫ —Å–∫–ª–∞–¥—Å–∫–æ–µ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ –∫–æ–ª—Ö–æ–∑–∞, –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –≤—Å–µ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ—Ä–æ–¥–∫–∏ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞–Ω—ã. –í –¥–µ–∫–∞–±—Ä–µ 1942 –≥–æ–¥–∞ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –º—É–∂–∏–∫–∏ –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –¥–Ω—è –µ–≥–æ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏–ª–∏, –∞ –µ—â–µ –ø–æ–∑–∂–µ –≤—ã—Ä—É–±–∏–ª–∏ –±–µ—Ä–µ–∑–æ–≤—ã–π –ø–∞—Ä–∫, –≤—ã—Ä–µ–∑–∞–ª–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤—ã–π —Å–∞–¥, –∞–ª–ª–µ–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–µ–ª–∏ –∫ –ø—Ä—É–¥—É, –∏ –≤–µ–∫–æ–≤—ã–µ –¥—É–±—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ä–æ—Å–ª–∏ –ø–æ –∫–æ—Å–æ–≥–æ—Ä–∞–º. –î–∏–∫–æ—Å—Ç—å –∏ –Ω–µ–≤–µ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞—à–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π —á–∞—Å—Ç–æ –±—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–µ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–µ–Ω–æ – –Ω–µ –Ω–∞—à–ª–æ—Å—å –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, —á—Ç–æ–±—ã –∑–∞—â–∏—Ç–∏—Ç—å —É—Å–∞–¥—å–±—É, –≤–µ–¥—å –º–Ω–æ–≥–æ–µ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∞–ª–æ—Å—å —É–∂–µ –ø–æ—Å–ª–µ —É—Ö–æ–¥–∞ –Ω–µ–º—Ü–µ–≤, –±–µ–∑ –≤—Å—è–∫–æ–π —Ü–µ–ª–∏ –∏ –∏—Å—Ö–æ–¥—è –∏–∑ —Å–∏—é–º–∏–Ω—É—Ç–Ω—ã—Ö –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ—Å—Ç–µ–π.
–ù–∞ —Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ –µ—â–µ –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ XIX –≤–µ–∫–∞ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫ —Ö—É—Ç–æ—Ä –õ—É—Ü—ã —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —Å—Ç–∞—Ä–æ-—á–µ—à—É–π–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –ø–æ—Å–µ–ª–æ–∫ —Å –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º —Ö—É—Ç–æ—Ä –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π. –ú–µ—Å—Ç–æ —ç—Ç–æ, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤ –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–Ω–æ–º –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–Ω–æ–º —É–≥–æ–ª–∫–µ –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ –ú–≥–ª–∏–Ω–∞, –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–µ—Ç –≤—Å—è–∫–æ–≥–æ, –∫—Ç–æ –∂–µ–ª–∞–µ—Ç –±–ª–∏–∂–µ –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—å—Å—è —Å –Ω–∞—á–∞–ª–æ–º –∫–ª–∞—Å—Å–æ–≤–æ–π –±–æ—Ä—å–±—ã –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ –∏ –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å—é –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, —Å –∏–º–µ–Ω–µ–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ–Ω–∞ –∫—Ä–µ–ø–∫–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–∞.
–û—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ-—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–∞—è –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –ü–∞–≤–ª–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ
–ó–∞–¥–æ–ª–≥–æ –¥–æ –û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∏ –µ–≥–æ —É–µ–∑–¥–µ –æ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–º –±—ã–ª–æ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–æ –º–Ω–µ–Ω–∏–µ, –∫–∞–∫ –æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–µ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ–º. –¢–∞–∫–∏—Ö –ª–∏—Ü, –∫–∞–∫ –æ–Ω, –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –æ–¥–Ω–∏–º —Å–ª–æ–≤–æ–º – «–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç—ã». –°–æ—Å—Ç–æ—è–ª –ª–∏ –æ–Ω —á–ª–µ–Ω–æ–º –Ý–°–î–Ý–ü –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç, —Ç–∞–∫–∏—Ö —Ç–æ—á–Ω—ã—Ö —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π –æ–± —ç—Ç–æ–º –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –∞ —Å–∞–º –æ–Ω –æ–± —ç—Ç–æ–º –Ω–∏–∫–æ–º—É –∏ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª. –ë—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–Ω–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ê.–§., –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ–Ω –∑–Ω–∞–ª –ª–∏—á–Ω–æ, —Å—á–∏—Ç–∞–ª —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –≤—Ä–∞–≥–æ–º, –æ —á–µ–º –æ–Ω –Ω–µ–æ–¥–Ω–æ–∫—Ä–∞—Ç–Ω–æ –∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω—ã—Ö –±–µ—Å–µ–¥–∞—Ö –∏ –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –ø—É–±–ª–∏—á–Ω—ã—Ö –≤—ã—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è—Ö.
–ù–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å —Å–ª—É—Ö–∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤ —Ü–∞—Ä—Å–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ —Ç–∞–π–Ω—ã–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏—Ö —Å–µ–ª–µ–Ω–∏–π, –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–æ—Å–∏–ª —Ä–µ—á–∏ –æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –±–æ—Ä–æ—Ç—å—Å—è —Å —Å–∞–º–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∏–µ–º –∏ –¥–æ–±–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –∫–æ–Ω—Ñ–∏—Å–∫–∞—Ü–∏–∏ –ø–æ–º–µ—â–∏—á—å–∏—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á–∏ –∏—Ö —Ç—Ä—É–¥–æ–≤–æ–º—É –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤—É [17].
–í–±–ª–∏–∑–∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ö—É—Ç–æ—Ä–∞ –õ—É—Ü—ã –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª –Ω–æ—á–Ω—ã–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–æ–≤, —É—á–∏–ª –∫–æ–Ω—Å–ø–∏—Ä–∞—Ü–∏–∏, –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏–≤–∞–ª –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–æ–π –∏–∑ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–∞, –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª –≤—Å—é –∏—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –ò –¥–∞–∂–µ –∫–æ–≥–¥–∞ –µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–æ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ, –æ–Ω –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å —Å–≤—è–∑—å —Å –ì–∞–≤—Ä—É—Å–µ–≤—ã–º –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–µ–º, —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –Ω–∏–≤–Ω—è–Ω—Å–∫–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã, —Å –î–æ–≤–±–µ–Ω–∫–æ –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–µ–º, —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –Ω–µ—Ç—è–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã, —Å –ì–∞—Ç—Ü—É–∫–æ–º –°–µ–º–µ–Ω–æ–º –ê–Ω–¥—Ä–æ–Ω–æ–≤–∏—á–µ–º — —É—á–∏—Ç–µ–ª–µ–º —á–µ—à—É–π–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π —à–∫–æ–ª—ã –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∞–º–∏.
–í–æ—Ç —á—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –æ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–æ–≤ –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π –î–æ–≤–±–µ–Ω–∫–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–∞–º «—Ö–æ–¥–∏–ª» –≤ —ç—Å–µ—Ä–∞—Ö, –±–ª–∏–∂–µ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –∑–Ω–∞–ª –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–π —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –∏ –¥–æ –¥–Ω—è –µ–≥–æ –≥–∏–±–µ–ª–∏.
«–í–µ—Ä–±–æ–≤–∞–ª –Ω–∞—Å –≤ –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç—ã, –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤—ã–≤–∞–ª –≤ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª –Ω–∞—à—É —Ä–∞–±–æ—Ç—É –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –ü.–ë. –ù–∏ —á–ª–µ–Ω—Å—Ç–≤–∞, –Ω–∏ –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—ã —É –Ω–∞—Å –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ú—ã –¥–æ–±–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–∏—è —Å–∞–º–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∏—è, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, –±–µ–∑–≤–æ–∑–º–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç—á—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è –ø–æ–º–µ—â–∏—á—å–∏—Ö, –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–∏—Ö, —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å –∏ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–∞ –∏—Ö –º–µ–∂–¥—É –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏ –≤ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞ –∏ —á–∏—Å–ª–∞ –¥—É—à –≤ —Å–µ–º—å–µ.»
–í –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –¥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –º–Ω–æ–≥–æ–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –¥–ª—è –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞. –ò–º –Ω–∞—Å—Ç–æ–π—á–∏–≤–æ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –ø–æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—é –∫–æ–æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤–æ–≤ –≤ —É–µ–∑–¥–µ – –Ω–∞ —Ç–∞–∫–∏—Ö —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è—Ö –±—ã–ª–æ —É–¥–æ–±–Ω–æ –≤–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é –∏ –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç—Å–∫—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –û–±—Å—É–∂–¥–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –∏ —Ç–µ–∫—É—â–∏–µ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã —É–µ–∑–¥–∞, —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ –¥–ª—è –µ–≥–æ –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è: —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –≤–æ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω–æ-—á–µ—Ä–µ–ø–∏—á–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞ –Ω–∞ –±–æ–≥–∞—Ç—ã—Ö –∑–∞–ª–µ–∂–∞—Ö –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≥–ª–∏–Ω, —Å–ø–∏—á–µ—á–Ω–æ–π —Ñ–∞–±—Ä–∏–∫–∏ –Ω–∞ –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –∑–∞–ø–∞—Å–∞—Ö –¥—Ä–µ–≤–µ—Å–∏–Ω—ã, –∫–∞–Ω–∞—Ç–Ω–æ-—à–ø–∞–≥–∞—Ç–Ω–æ–π —Ñ–∞–±—Ä–∏–∫–∏ –Ω–∞ –±–∞–∑–µ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ –ø–µ–Ω—å–∫–∏, –∫–æ–Ω—Å–µ—Ä–≤–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞ –ø–æ –ø–µ—Ä–µ—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–µ –º—è—Å–∞, —è–≥–æ–¥, –≥—Ä–∏–±–æ–≤; –º–µ—Ö–∞–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏—Ö –ø–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤—É –∏ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç—É —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ä—É–¥–∏–π, —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏, –ø–∞—Ä–æ–≤–æ–π –º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã, –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ –≥–∏–º–Ω–∞–∑–∏–∏ [16].
–û–¥–Ω–∞–∫–æ –≤ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö —Ç–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Ç–∞–∫–æ–µ —à–∏—Ä–æ–∫–æ–µ –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –≠—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –ª–∏—à—å –±–ª–∞–≥–∏–º –ø–æ–∂–µ–ª–∞–Ω–∏–µ–º. –ü–æ–º–∏–º–æ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø—Ä–∏—á–∏–Ω –Ω–µ–ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–∏–º—ã–º –ø—Ä–µ–ø—è—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ–º —è–≤–ª—è–ª–∞—Å—å —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫–∞ –≥—Ä—É–∑–æ–≤. –ü–æ–Ω–∏–º–∞—è, —á—Ç–æ –≥—É–∂–µ–≤—ã–º —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–æ–º –±–æ–ª—å—à–æ–π –æ–±—ä–µ–º —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–æ–≤ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑—Ç–∏ –æ—Ç –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ–π —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –£–Ω–µ—á–∞ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ, –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ, –æ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –£–Ω–µ—á–∞-–ú–≥–ª–∏–Ω.
–° –ø—Ä–∏—Å—É—â–µ–π –µ–º—É —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏–µ–π –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–∑—è–ª—Å—è –∑–∞ –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —ç—Ç–∏—Ö –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–æ–≤. –í 1914 –≥–æ–¥—É –æ–Ω –≤–∑—è–ª –ø–æ–¥—Ä—è–¥ –Ω–∞ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –¥–æ–±–∏–ª—Å—è –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º –¥–µ–Ω–µ–≥ –Ω–∞ —ç—Ç–∏ —Ü–µ–ª–∏, –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–ª –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ —Ä–∞–±–æ—Ç, –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –∫–æ–Ω—Ç–æ—Ä—É –¥–ª—è –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ —à–ø–∞–ª, –≤–∑—è–ª 80 –¥–µ—Å—è—Ç–∏–Ω –ª–µ—Å–∞ –∑–∞ –•–æ—Ä–Ω–æ–≤–∫–æ–π –≤ —É—Ä–æ—á–∏—â–µ –ü–ª–∏—á–µ–∫. –§–∏–Ω–∞–Ω—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —á–µ—Ä–µ–∑ –£–µ–∑–¥–Ω—ã–π –°–æ—é–∑ –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–Ω—ã—Ö —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤.
–í 1915 –≥–æ–¥—É –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –≤ –ü–ª–∏—á–∏–∫–µ –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ —à–ø–∞–ª –¥–ª—è –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω — –£–Ω–µ—á–∞. –ù–æ –≤–æ–π–Ω–∞, —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–∞–∑—Ä—É—Ö–∞, —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —è–≤–∏–ª–∏—Å—å –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–æ–π —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞—á–∞—Ç—ã–µ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã —Å–∫–æ—Ä–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –ó–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —à–ø–∞–ª—ã –æ—Ç–≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—É—é –¥–æ—Ä–æ–≥—É –≤ –£–Ω–µ—á—É.
–í —Ü–µ–ª–æ–º, —Å—Ñ–µ—Ä–∞ –µ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã 1914 –≥–æ–¥–∞ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –ª–∏—à—å —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–Ω—ã–º —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º, –≥–¥–µ —Ä–µ—à–∞—é—â—É—é —Ä–æ–ª—å –∏–≥—Ä–∞–ª–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–µ –º–∞—Å—Å—ã, –∞ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–∞ –∏ –∏–º—É—â–∏—Ö –∫–ª–∞—Å—Å–æ–≤ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –∏ —É–µ–∑–¥–∞.
–í –≥–æ–¥—ã –ø–µ—Ä–≤–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–∞—è –±–æ—Ä—å–±–∞ —à–∏—Ä–∏–ª–∞—Å—å, –æ—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞—è –≤—Å–µ —É–≥–æ–ª–∫–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã. –£—Å–∏–ª–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –æ–Ω–∞ –∏ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ. –í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –ø–æ –±–æ–ª–µ–∑–Ω–∏ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∏ –∏ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã–µ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—ã —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –æ–¥–Ω–æ—Å–µ–ª—å—á–∞–Ω–∞–º –æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ –Ω–∞ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–µ, —á–∏—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞ –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏—Å—Ç—Å–∫–∏–µ –≤–æ–∑–∑–≤–∞–Ω–∏—è, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –≤—ã—Ö–æ–¥ –∏–∑ –≤–æ–π–Ω—ã.
–í —ç—Ç–∏—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö —Å –Ω–æ–≤–æ–π —Å–∏–ª–æ–π –≤–æ–∑–æ–±–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–æ–≤. –ö–∞–∫ —Ä–∞–Ω—å—à–µ, —Ç–∞–∫ –∏ –≤ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –≥–æ–¥—ã –∏—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –ø–æ–¥ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ. –°–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π —Å —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º, –≥–¥–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∏ –æ–±–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –≤ 1917 –≥–æ–¥—É, –æ–Ω –±—ã–ª –≤ –∫—É—Ä—Å–µ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, –≤–∏–¥–µ–ª –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–µ–Ω–∏–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–µ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∫ —ç—Ç–æ–º—É —Å–æ–±—ã—Ç–∏—é.
–° 1915 –≥–æ–¥–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å—Ç–∞–ª –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –∂–∏—Ç—å –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –∏ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ, –Ω–µ –ø–æ—Ä—ã–≤–∞—è —Å–≤—è–∑–∏ —Å –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥–æ–º. –°–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç—ã —É–µ–∑–¥–∞ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –¥–ª—è –±–æ–ª–µ–µ —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä—Ç—ã–≤–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç–∫–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–º—É –Ω–∞–¥–æ –≤–æ–π—Ç–∏ –≤ –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω—ã –≤–ª–∞—Å—Ç–∏. –ù–æ —É –Ω–µ–≥–æ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–∞, –¥–∞—é—â–µ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞—Ç—å –≤—ã–±–æ—Ä–Ω—ã–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏. –¢–æ–≥–¥–∞ –ø–æ –ª–µ–≤–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ (–Ω—ã–Ω–µ —É–ª. –í–æ—Ä–æ—à–∏–ª–æ–≤–∞) –æ–Ω –∫—É–ø–∏–ª —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –¥–æ–º –∏ –∑–∞—Å—Ç—Ä–∞—Ö–æ–≤–∞–ª –µ–≥–æ –Ω–∞ 300 —Ä—É–±–ª–µ–π. –≠—Ç–æ —É–∂–µ –±—ã–ª –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω—ã–π –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Ü–µ–Ω–∑, —á—Ç–æ–±—ã —Å—Ç–∞—Ç—å –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏–º –≥–ª–∞—Å–Ω—ã–º, –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –ø—Ä–∞–≤–æ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –≤ –≤—ã–±–æ—Ä–∞—Ö –∏ –±—ã—Ç—å –∏–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –≤ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω—ã —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è.
–í —ç—Ç–æ–º –∂–µ –≥–æ–¥—É –µ–≥–æ –∏–∑–±–∏—Ä–∞—é—Ç –≥–ª–∞—Å–Ω—ã–º –∏ –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º –ó–µ–º—Å–∫–æ–π —É–ø—Ä–∞–≤—ã, –∞ –≤ 1916 –≥–æ–¥—É – –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏–º –≥–æ–ª–æ–≤–æ—é. –ó–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –ø–æ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—é –∫—Ä–∞—è –µ–º—É –ø—Ä–∏—Å–≤–∞–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∑–≤–∞–Ω–∏–µ –ü–æ—á–µ—Ç–Ω—ã–π –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–∏–Ω –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω–∞.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤—Å–µ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –ø–æ–ª—É—á–∞—é—Ç —É–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è –≤–æ –≤—Å–µ—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è—Ö –∏ —Å–µ–ª–∞—Ö —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏—Ç—Å—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –¥–∞—Å—Ç –∑–µ–º–ª—é –∏ —Å–≤–æ–±–æ–¥—É —Ç—Ä—É–¥—è—â–∏–º—Å—è. –õ—é–¥–∏ –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ –≤–µ–ª–∏–∫–∏—Ö –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –≤–µ—Å—Ç—å –æ –ø–æ–±–µ–¥–µ –§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –¥–ª—è –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ –∏ —É–µ–∑–¥–∞.
–ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã —Å —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ–º –æ —Å–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–∏–∏ —Å–∞–º–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∏—è, –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π —ç–∫—Å—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–æ —Å–æ–∑–≤–∞–ª —Å–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏–µ –¥–ª—è —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞ –æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è—Ö –≤ —É–µ–∑–¥–µ –≤ —Å–≤—è–∑–∏ —Å –ø–∞–¥–µ–Ω–∏–µ–º —Ü–∞—Ä—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏. –ù–∞ —ç—Ç–æ–º —Å–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏–∏ –±—ã–ª–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ –ø–æ—Å–ª–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π –≤–æ –≤—Å–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—É–Ω–∫—Ç—ã —É–µ–∑–¥–∞, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –æ —Å–≤–µ—Ä—à–∏–≤—à–µ–π—Å—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, –Ω–æ –∏ –æ—Ç –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ —Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –∏–∑–±—Ä–∞—Ç—å –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç–æ–≤ –Ω–∞ —É–µ–∑–¥–Ω—ã–π —Å—ä–µ–∑–¥ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω.
–£–µ–∑–¥–Ω—ã–π —Å—ä–µ–∑–¥ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª—Å—è –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ –º–∞—Ä—Ç–∞ 1917 –≥–æ–¥–∞ –≤ –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º –Ω–∞—Ä–¥–æ–º–µ. –ü–µ—Ä–µ–¥ –µ–≥–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ–º –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç—ã —Ä–∞–∑–æ—Ä—É–∂–∏–ª–∏ –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫—É—é –∂–∞–Ω–¥–∞—Ä–º–µ—Ä–∏—é, —Å–ª–æ–∂–∏–≤—à—É—é –æ—Ä—É–∂–∏–µ –±–µ–∑ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—è [16, 18].
–°—ä–µ–∑–¥ –∑–∞—Å–ª—É—à–∞–ª –¥–æ–∫–ª–∞–¥ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –æ —Ç–µ–∫—É—â–∏—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è—Ö –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, –∏–∑–±—Ä–∞–ª –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç–æ–≤ –Ω–∞ –≥—É–±–µ—Ä–Ω—Å–∫–∏–π —Å—ä–µ–∑–¥, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –∏–∑–±—Ä–∞–ª —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º–∏—Å—Å–∞—Ä–∞ –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –∏ –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç –ø—Ä–∏ –Ω–µ–º. –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç–∞ –∏–∑–±—Ä–∞–ª–∏ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤–∑—è–ª –≤—Å—é –ø–æ–ª–Ω–æ—Ç—É –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤ —É–µ–∑–¥–µ, –∏ –Ω–µ –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è–ª—Å—è –∫–æ–º–∏—Å—Å–∞—Ä—É, –∞ –∫–æ–º–∏—Å—Å–∞—Ä –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è–ª—Å—è —É–µ–∑–¥–Ω–æ–º—É –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç—É.
–ò–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ I —Å—ä–µ–∑–¥–µ —É–µ–∑–¥–Ω—ã–π –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç –∏–∑ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç –±—ã–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–º –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã–º –°–æ–≤–µ—Ç–æ–º –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö, —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–æ–≤, —Å–æ—Å—Ä–µ–¥–æ—Ç–æ—á–∏–≤—à–∏–º –≤—Å—é –ø–æ–ª–Ω–æ—Ç—É –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö. –¢–∞–∫ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –º–∞—Ä—Ç–∞ 1917 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ –±—ã–ª–∞ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∞ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –≤–ª–∞—Å—Ç—å —è–≤–æ—á–Ω—ã–º –ø–æ—Ä—è–¥–∫–æ–º, –±–µ–∑ —É–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è —Å–≤—ã—à–µ –∏ –≤–æ–ø—Ä–µ–∫–∏ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é —á–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –≥—É–±–µ—Ä–Ω—Å–∫–∏—Ö –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π.
–ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –£–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –°–æ–≤–µ—Ç–∞ –∏ –∞–≤—Ç–æ—Ä «–∫—Ä—ã–º—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ü–µ–Ω–∞—Ä–∏—è» –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –∫ –Ý–°–§–°–Ý
–í—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–æ—Å–ª–µ –û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –∏ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏, –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π, –∂–∏–≤—è –Ω–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –õ—É—Ü—ã, —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª —Å–∞–º–æ–µ –≥–æ—Ä—è—á–µ–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–π –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∏ –µ–≥–æ —É–µ–∑–¥–µ –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ä–≥–∞–Ω–æ–≤ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏.
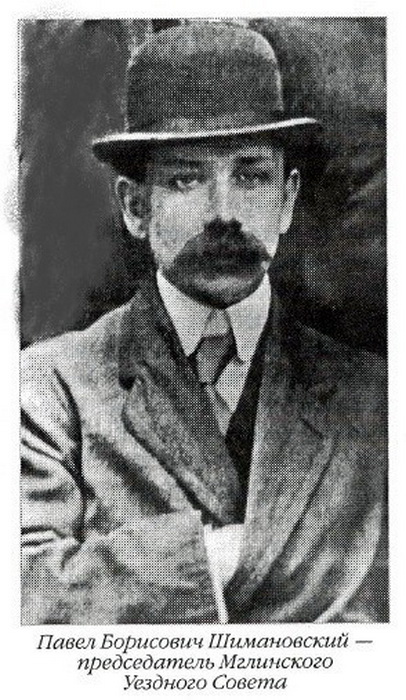
–ü–∞–≤–µ–ª –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–∏—á –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π – –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –£–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –°–æ–≤–µ—Ç–∞
–û–±—ä–µ–¥–∏–Ω–∏–≤ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–µ–±—è –≥—Ä—É–ø–ø—É –ø—Ä–∏–±—ã–≤—à–∏—Ö –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É —Å–æ–ª–¥–∞—Ç –∏ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–æ–≤-—Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–æ–≤, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π —É–∂–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–π –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∏ –º. –ü–æ—á–µ–ø–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏, –ø—Ä–∏–Ω—è–≤ —Å–∞–º –ø–æ –∏—Ö –Ω–∞—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –ø–æ—Å—Ç –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è –û–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö, —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–æ–≤, –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–≤–µ–ª –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –°–æ–≤–µ—Ç–∞ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤.
–ù–∞ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ, –∫—É–¥–∞ –¥–æ –∏—é–ª—è 1919 –≥–æ–¥–∞ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª—Å—è –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–π —É–µ–∑–¥, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ—Å—Ç–µ–π –∏ –ø—Ä–µ–ø—è—Ç—Å—Ç–≤–∏–π. –ü–æ—Å–ª–µ –û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –≤–ª–∞—Å—Ç—å –Ω–∞ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–∞—è –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∞—è –Ý–∞–¥–∞, –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∫–æ–Ω—Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –∫–æ–Ω—Ç—Ä—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ —Å–∏–ª—ã. 20 –Ω–æ—è–±—Ä—è 1917 –≥–æ–¥–∞ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–∞—è –Ý–∞–¥–∞ –æ–±—ä—è–≤–∏–ª–∞ –æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ù–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –Ý–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –≤–æ—à–ª–∏ –ö–∏–µ–≤—â–∏–Ω–∞, –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—â–∏–Ω–∞, –í–æ–ª—ã–Ω—å, –ü–æ–¥–æ–ª—å–µ, –ü–æ–ª—Ç–∞–≤—â–∏–Ω–∞, –•–∞—Ä—å–∫–æ–≤—â–∏–Ω–∞, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–æ—Å–ª–∞–≤—â–∏–Ω–∞, –•–µ—Ä—Å–æ–Ω—â–∏–Ω–∞ –∏ –¢–∞–≤—Ä–∏—è.
–Ý–∞–¥–∞ –∑–∞–∫–ª—é—á–∏–ª–∞ —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏—è —Å —Ä–∞–∑–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–Ω—Ç—Ä—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è–º–∏ –∏ –ø–∞—Ä—Ç–∏—è–º–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –æ–±—ä—è–≤–∏–ª–∞ –æ –≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ê–Ω—Ç–∞–Ω—Ç–µ.
–û–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ —Å–æ–∑–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –≤ –•–∞—Ä—å–∫–æ–≤–µ —Å—ä–µ–∑–¥ –°–æ–≤–µ—Ç–æ–≤ —Å–≤–æ–∏–º –º–∞–Ω–∏—Ñ–µ—Å—Ç–æ–º 12 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1917 –≥–æ–¥–∞ –ø—Ä–æ–≤–æ–∑–≥–ª–∞—Å–∏–ª –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—É –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–π –∏ —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –ø–µ—Ä–≤–æ–µ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ. –í—ã—Ä–∞–∂–∞—è –≤–æ–ª—é —Ç—Ä—É–¥—è—â–∏—Ö—Å—è –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, —Å—ä–µ–∑–¥ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–ª –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º—ã–º –≤—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –≤ —Ç–µ—Å–Ω—ã–π —Å–æ—é–∑ —Å –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π. –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –§–µ–¥–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–ª–æ –∏–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω–æ–µ –Ω–∞ —Å—ä–µ–∑–¥–µ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–∫–æ–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –∏ —Ä–µ—à–∏–ª–æ –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –µ–º—É –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω—É—é –ø–æ–º–æ—â—å –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –Ý–∞–¥—ã.
–ï—â–µ –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –Ω–æ—è–±—Ä—è 1917 –≥–æ–¥–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –æ—Ç—Ä—è–¥ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–æ–≤, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞—Ç—å –∑–¥–µ—Å—å –±–æ—Ä—å–±—É —Å –≤–ª–∞—Å—Ç—è–º–∏ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –Ý–∞–¥—ã. –û–Ω —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –±–æ–ª—å—à—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –ø–æ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª —Å —Ü–µ–ª—å—é –æ–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è –ø–æ–º–æ—â–∏ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏–º —Ç—Ä—É–¥—è—â–∏–º—Å—è –≤ –∏—Ö –±–æ—Ä—å–±–µ –∑–∞ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏.
–ü–æ—Å–ª–∞–Ω–Ω—ã–µ –∏–∑ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞, –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–Ω—ã–µ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Ü–∞–º–∏, –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –≤ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–µ. –í —Ä—è–¥–µ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤ –Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –Ý–∞–¥—ã.
28 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1918 –≥–æ–¥–∞ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞ —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–Ω–æ —Å –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–≤—à–∏–º–∏ –∫–∏–µ–≤—Å–∫–∏–º–∏ —Ä–∞–±–æ—á–∏–º–∏ –∑–∞–Ω—è–ª–∏ –ö–∏–µ–≤. –í—Å–∫–æ—Ä–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –≤–ª–∞—Å—Ç—å —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –≤—Å–µ–π –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ.

–ì–µ—Ç–º–∞–Ω –ü–∞–≤–ª–æ –°–∫–æ—Ä–æ–ø–∞–¥—Å–∫–∏–π –∏ –∫–∞–π–∑–µ—Ä –í–∏–ª—å–≥–µ–ª—å–º II –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤–∏–∑–∏—Ç–∞ –≤ –ë–µ—Ä–ª–∏–Ω –≤ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ 1918 –≥.
–ù–æ –≤ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª–µ 1918 –≥–æ–¥–∞ –ø–æ –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –Ý–∞–¥—ã –Ω–∞ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—É –≤—Ç–æ—Ä–≥–ª–∏—Å—å –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–µ –ø–æ–ª—á–∏—â–∞. –ù–µ–º–µ—Ü–∫–∏–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞ –∏ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω—Å–∫–∏–µ –≥–∞–π–¥–∞–º–∞–∫–∏ –∑–∞–Ω—è–ª–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—É. –ù–µ–∑–∞–Ω—è—Ç–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–µ–π –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –ª–∏—à—å —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ, –≤–Ω–æ–≤—å —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –ü–æ—á–µ–ø—Å–∫–æ–≥–æ, —á–∞—Å—Ç–∏ –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏.
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1918 –≥–æ–¥–∞ –≤ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç–∞, –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–∫–∫—É–ø–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞–º–∏, –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ä–∞–¥–∞ –±—ã–ª–∞ —É–ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–µ–Ω–∞. –í–ª–∞—Å—Ç—å –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–Ω–∞ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω—É –ü–∞–≤–ª–æ –°–∫–æ—Ä–æ–ø–∞–¥—Å–∫–æ–º—É – —Å—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–º—É –ø–æ–º–µ—â–∏–∫—É, –∞ –µ–≥–æ –≤–µ–ª—å–º–æ–∂–Ω—ã–º —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º —Å—Ç–∞–ª –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ø—Ä–µ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–∞ –•–∞–Ω–µ–Ω–∫–æ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á [17].
–®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –∫–æ–º–∏—Å—Å–∞—Ä–æ–º –≤ –Ω–µ–æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö, –∏ —á—Ç–æ–±—ã –æ—Ç—Å—Ç–æ—è—Ç—å –∑–¥–µ—Å—å –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫—É—é –≤–ª–∞—Å—Ç—å, –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –≤—Å—Ç—É–ø–∞—Ç—å –≤ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Å–∫–∏–µ –æ—Ç—Ä—è–¥—ã. –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–π —É–µ–∑–¥–Ω—ã–π –°–æ–≤–µ—Ç –≤ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª–µ 1918 –≥–æ–¥–∞ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç—É –ø–æ –≤–µ—Ä–±–æ–≤–∫–µ –¥–æ–±—Ä–æ–≤–æ–ª—å—Ü–µ–≤ –≤–æ –≤—Å–µ—Ö –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—É–Ω–∫—Ç–∞—Ö, –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑—É–µ—Ç –∑–∞–ø–∏—Å—å –≤–æ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ, —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä—É–µ—Ç –º–∞—Ä—à–µ–≤—ã–µ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—Ç –≤ —à—Ç–∞–± –≤ –£–Ω–µ—á–µ. –í –£–Ω–µ—á–µ –∏–¥—É—Ç –∑–∞–ø–∏—Å—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω—É—é –≥–≤–∞—Ä–¥–∏—é –∏–∑ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –Ω–µ–æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç. –°—é–¥–∞ –ø—Ä–æ–±–∏—Ä–∞—é—Ç—Å—è —Å –æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Ç—Ä—É–¥—è—â–∏–µ—Å—è, —Å–ø–∞—Å–∞—è—Å—å –æ—Ç —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∞ –æ–∫–∫—É–ø–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π –∏ –ø–µ—Ç–ª—é—Ä–æ–≤—Ü–µ–≤.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ú–≥–ª–∏–Ω —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –±—ã –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏. –ó–¥–µ—Å—å —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–µ—Ç—Å—è –∏ —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è–µ—Ç—Å—è –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –≤–ª–∞—Å—Ç—å, —Å—é–¥–∞ –∑–∞–≤–æ–∑–∏—Ç—Å—è —Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–æ–≤–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –±–æ–µ–ø—Ä–∏–ø–∞—Å—ã, —Å—é–¥–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∏ –∏–∑ –ª—è–ª–∏—á—Å–∫–æ–≥–æ –±—ã–≤—à–µ–≥–æ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–ª—è —à–∏–Ω–µ–ª–∏, –æ–¥–µ—è–ª–∞, –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–Ω–∏, –¥—Ä—É–≥–æ–µ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ, –ø–æ–ø–æ–ª–Ω—è–µ—Ç—Å—è –∫–∞—Ä–∞—É–ª—å–Ω–∞—è —Ä–æ—Ç–∞, –Ω–∞–ª–∞–∂–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ–±—É—á–µ–Ω–∏–µ –¥–æ–±—Ä–æ–≤–æ–ª—å—Ü–µ–≤ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ [16].
–î–ª—è –±–æ—Ä—å–±—ã —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤–µ–Ω—Ç–∞–º–∏ –í—Å–µ—É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏–π –Ý–µ–≤–∫–æ–º –∏–∑–¥–∞–ª –ø—Ä–∏–∫–∞–∑ –æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –¥–≤—É—Ö —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω—ã—Ö –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –¥–∏–≤–∏–∑–∏–π –∏–∑ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–≤—Å—Ç–∞–Ω—Ü–µ–≤, –≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ –ø–æ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ–π –ª–∏–Ω–∏–∏ –ì–æ–º–µ–ª—å – –ë—Ä—è–Ω—Å–∫, –º–µ–∂–¥—É –ü–æ—á–µ–ø–æ–º –∏ —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–µ–π –£–Ω–µ—á–∞.
–û–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –≥–µ—Ä–æ–µ–≤ —ç—Ç–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã 1918 –≥–æ–¥–∞ —Å –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–º–∏ –æ–∫–∫—É–ø–∞–Ω—Ç–∞–º–∏ –∏ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –≥–∞–π–¥–∞–º–∞–∫–∞–º–∏ –±—ã–ª –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –©–æ—Ä—Å, —à—Ç–∞–± –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ –£–Ω–µ—á–µ, –≥–¥–µ –æ–Ω —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –ë–æ–≥—É–Ω—Å–∫–∏–π –∏ –¢–∞—Ä–∞—â–∞–Ω—Å–∫–∏–π –ø–æ–ª–∫–∏.
–°–Ω–∞–±–∂–µ–Ω–∏–µ —ç—Ç–∏—Ö –ø–æ–ª–∫–æ–≤ –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –±—ã–ª–æ –≤–æ–∑–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –Ω–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω, –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ –ü.–ë. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∏–º–µ–ª –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—É—é —Å–≤—è–∑—å —Å–æ –©–æ—Ä—Å–æ–º, –Ý–µ–≤–∫–æ–º–æ–º –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –§–µ–¥–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –≤–æ–∑–≥–ª–∞–≤–ª—è—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫—É—é –≤–ª–∞—Å—Ç—å –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ, –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–Ω–æ —Å–æ –©–æ—Ä—Å–æ–º –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª –≥–æ—Ä—è—á–µ–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ –µ–≥–æ –±–æ—Ä—å–±–µ –∑–∞ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏.
–ü—Ä–∏ —à—Ç–∞–±–µ –©–æ—Ä—Å–∞ –≤ –£–Ω–µ—á–µ –æ–Ω —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–ª –º–µ–∂–¥—É —ç—Ç–∏–º–∏ —É–µ–∑–¥–∞–º–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç–æ–≤–∞—Ä—ã, –ø—Ä–∏–±—ã–≤–∞—é—â–∏–µ –∏–∑ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞ –∏ –í—Å–µ—É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –Ý–µ–≤–∫–æ–º–∞ –¥–ª—è –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö —á–∞—Å—Ç–µ–π –∏ –≥–æ–ª–æ–¥–∞—é—â–µ–≥–æ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è [17].
–ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏
–ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–æ—Å—å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏—Ö –∏ –∫–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö –¥–µ–Ω–µ–≥, –≤–æ –ú–≥–ª–∏–Ω –∏—Ö –ø—Ä–∏–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ —Ä–µ–¥–∫–æ, –ó–µ–º—Å–∫–∞—è —É–ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∞ –¥–µ–Ω–µ–≥ –¥–∞–∂–µ –¥–ª—è –≤—ã–ø–ª–∞—Ç—ã –∑–∞—Ä–ø–ª–∞—Ç—ã —Å–≤–æ–∏–º —Å–ª—É–∂–∞—â–∏–º. –ß—Ç–æ–±—ã –≤—ã–π—Ç–∏ –∏–∑ –¥–µ–Ω–µ–∂–Ω—ã—Ö –∑–∞—Ç—Ä—É–¥–Ω–µ–Ω–∏–π, –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª —Å–æ–∑–≤–∞—Ç—å –∑–µ–º—Å–∫–æ–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ –¥–ª—è —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞ –æ –≤—ã–ø—É—Å–∫–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–µ–Ω–µ–≥ –Ω–∞–ø–æ–¥–æ–±–∏–µ —Ç–µ—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤ –≥–æ–¥—ã —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏—Å—å –∏ –≤ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –Ω–∞—à–µ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã. 25 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1917 –≥–æ–¥–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–æ—Å—å –∑–µ–º—Å–∫–æ–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –ø–æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏—Ç—å –∑–µ–º—Å–∫–æ–π —É–ø—Ä–∞–≤–µ –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –¥–µ–Ω–µ–∂–Ω—ã—Ö —á–µ–∫–æ–≤ –∑–µ–º—Å—Ç–≤–∞ –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ–º 3, 5, 10 –∏ 25 —Ä—É–±–ª–µ–π –Ω–∞ –æ–±—â—É—é —Å—É–º–º—É 300 —Ç—ã—Å—è—á —Ä—É–±–ª–µ–π.
–° –≤—ã–ø—É—Å–∫–æ–º —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ–Ω–µ–∂–Ω—ã—Ö –∑–Ω–∞–∫–æ–≤, –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è «–®–∏–º–∞–Ω–æ–≤–∫–∞–º–∏», – –±–æ–Ω –∑–∞ –µ–≥–æ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—å—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–µ—á–∞—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∏ –∏–º–µ–ª–∏ —Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞, – –≤ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è–ª–æ—Å—å –Ω–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ —Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π —è–∫–æ–±—ã —Å–æ–∑–¥–∞–ª –æ—Å–æ–±—É—é «—Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫—É —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤», –∞ —Å–∞–º —Å—Ç–∞–ª –Ω–µ –∫–µ–º –∏–Ω—ã–º, –∫–∞–∫ «—Ü–∞—Ä–µ–º» —ç—Ç–æ–π —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∏. –ü–æ—è–≤–ª—è—è—Å—å –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–∞—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω–∞, —Ç–µ–º–Ω—ã–µ, –∏–∑–≥–æ–ª–æ–¥–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏–µ –º–µ—â–∞–Ω–∫–∏, –ø—Ä–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ —Å –Ω–∏–º –∏ –æ–±—Ä–∞—â–∞—è—Å—å –∫ –Ω–µ–º—É, –Ω–µ—Ä–µ–¥–∫–æ –∫—Ä–∏—á–∞–ª–∏: «–¶–∞—Ä—å, —Ö–ª–µ–±–∞ –¥–∞–π!» [17].
–ë—É–¥—É—á–∏ –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –°–æ–≤–µ—Ç–∞, –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–∑—è–ª –Ω–∞ —Å–µ–±—è –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Å–∫–∏–º–∏ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è–º–∏ –≤ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–ª —à—Ç–∞–± –∏ —Å–æ—Å—Ä–µ–¥–æ—Ç–æ—á–∏–ª –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–µ —Å–∏–ª—ã –≤ –£–Ω–µ—á–µ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –≤—Ä–∞–≥–∞ –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞.
–ü—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–≤ –≤—Å—è–∫—É—é —Å–≤—è–∑—å —Å –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –Ý–∞–¥–æ–π, –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—è —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å—á–∏—Ç–∞–ª –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º—ã–º –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ 4-—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –≤ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è—Ö –∫ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –§–µ–¥–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –°–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –Ý–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–µ, –≥–¥–µ –∏–º–µ–µ—Ç—Å—è –≤–ª–∞—Å—Ç—å —Ç—Ä—É–¥–æ–≤–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞.
–ü—Ä–∏—á–∏–Ω—ã –¥–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –≤–µ—Å–∫–∏–µ. –í–æ –≤—Å–µ—Ö —ç—Ç–∏—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–ª–æ –Ω–µ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–µ, –∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ, —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –¥–∞–≤–Ω–æ —Å–ª–æ–∂–∏–≤—à–∏–º–∏—Å—è –æ–±—ã—á–∞—è–º–∏, —è–∑—ã–∫–æ–º, –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∂–∏–∑–Ω–∏.
–í —ç—Ç–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –≤–æ –≤—Å–µ—Ö —ç—Ç–∏—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö —Ä–µ—à–∞—é—â–µ–µ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º. –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏–µ –∫–∞–∑–∞–∫–∏, –∂–∏–≤—à–∏–µ –∏—Å—Å—Ç–∞—Ä–∏ –∑–¥–µ—Å—å, –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å —Å—Ä–µ–¥–∏ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ—Å–ª–∞–≤—è–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω—Ü–µ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å XVII –≤–µ–∫–∞, —Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å —Å—é–¥–∞ –∏–∑ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –Ý—É—Å–∏, —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ë–µ–ª–æ—Ä—É—Å—Å–∏–∏, –ü—Ä–∏–±–∞–ª—Ç–∏–∫–∏. –ù–µ –±—ã–ª–æ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∏ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–∏ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ —è–∑—ã–∫–∞, –Ω–∏ –æ–¥–µ–∂–¥—ã, –Ω–∏ –∂–∏–ª–∏—â, –æ—Ç–ª–∏—á–∞—é—â–∏—Ö —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Ü–µ–≤ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å–ª–∞–≤—è–Ω—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤.
–¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –ø–æ –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–º—É —Å–æ—Å—Ç–∞–≤—É, –ø–æ —è–∑—ã–∫—É, —Ä–æ–¥—É –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π, –∫–ª–∏–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —É—Å–ª–æ–≤–∏—è–º, –æ–±—Ä–∞–∑—É –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ —Ç—è–≥–æ—Ç–µ–ª–æ –∫ –í–µ–ª–∏–∫–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞. –ê –ø–æ—Å–ª–µ –§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Å–≤—è–∑–∏ —Å –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–æ–π –ø–æ—á—Ç–∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å, –∏ –≤ —ç—Ç–∏—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∞ —É–≥—Ä–æ–∑–∞ –≥–æ–ª–æ–¥–∞, —Ç—è–≥–∞ –∫ –í–µ–ª–∏–∫–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –≤–æ–∑—Ä–æ—Å–ª–∞. –í–æ–∑–Ω–∏–∫ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å —ç—Ç–∏ —É–µ–∑–¥—ã –≤ –æ–¥–∏–Ω —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Ä–∞–π–æ–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∏–º–µ–ª –±—ã –≤–µ—Å –∏ –º–µ—Å—Ç–æ –≤ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏–∫–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã. –î–ª—è —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è —ç—Ç–æ–≥–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞ –ø–æ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–µ –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –°–æ–≤–µ—Ç–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ 18 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 1918 –≥–æ–¥–∞ –≤ –£–Ω–µ—á–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª—Å—è —Å—ä–µ–∑–¥ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –æ—Ç —ç—Ç–∏—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ [16].
–í—ã—Å—Ç—É–ø–∞–≤—à–∏–µ –Ω–∞ —Å—ä–µ–∑–¥–µ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–∏ –∏–¥–µ—é –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è. –°–∫–æ—Ä–æ –Ω–µ–º—Ü—ã –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –æ–∫–∫—É–ø–∞—Ü–∏—é –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, –∏ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –ø–ª–∞–Ω –≤—Å—Ç–∞–ª –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, –∫–∞–∫ —Å–ø–∞—Å—Ç–∏ —ç—Ç–∏ —É–µ–∑–¥—ã –æ—Ç –≤—Ä–∞–∂–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≤—Ç–æ—Ä–∂–µ–Ω–∏—è. –í—ã—Ö–æ–¥ —É—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –ù–æ–≤–æ–∑—ã–±–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º—É, –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–æ–º—É –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–º—É —É–µ–∑–¥–∞–º –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å—Å—è –∏ –æ—Ç–¥–µ–ª–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã. –í —ç—Ç–∏—Ö —É–µ–∑–¥–∞—Ö –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, –∏–∑–±–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –¥–ª—è –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤—É –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å —ç—Ç–∏ —É–µ–∑–¥—ã –∫ –Ý–°–§–°–Ý.
–û–¥–Ω–∞–∫–æ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –Ω–µ –¥–æ–∂–∏–ª –¥–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è —ç—Ç–∏—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –æ—Ç –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –∏ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –∏—Ö –∫ –Ý–°–§–°–Ý.
–í –º–∞—Ä—Ç–µ 1918 –≥. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç–∞–º–∏ –æ—Ç –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ –∏ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç–∞–º–∏ –æ—Ç –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö 3-—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –≤—ã–µ—Ö–∞–ª –≤ –ú–æ—Å–∫–≤—É —Å —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞–π—Å—Ç–≤–æ–º –æ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–∏–∏ 4-—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –Ý–°–§–°–Ý. –ü—Ä–æ—Å—å–±–∞ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–∏ –±—ã–ª–∞ –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–Ω–∞ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ —Å –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ–º, –Ω–æ –≤ —Ç–æ–π —Å–ª–æ–∂–Ω–æ–π –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–µ, –∫–∞–∫–∞—è —Ç–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ, –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å —ç—Ç–∏ —É–µ–∑–¥—ã –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏—è–º –±—ã–ª–æ —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–æ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –ø—Ä–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ —Ä–µ—Ñ–µ—Ä–µ–Ω–¥—É–º –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –≤–æ –≤—Å–µ—Ö —Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤.
13 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1918 –≥–æ–¥–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –ü. –ë., –∫–∞–∫ –ö–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–∏–π –¥–æ–±—Ä–æ–≤–æ–ª—å—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞–º–∏ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –ø—Ä–∏–Ω—è–ª —É—á–∞—Å—Ç–∏ –≤ —Å–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏–∏ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—è—â–∏—Ö –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω–æ–º –ø–æ–¥ –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º –í. –ò. –õ–µ–Ω–∏–Ω–∞.
–° 14 –ø–æ 16 –º–∞—Ä—Ç–∞ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π, –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–π –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–µ–π, –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ IV –ß—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ–≥–æ –í—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ —Å—ä–µ–∑–¥–∞ –°–æ–≤–µ—Ç–æ–≤, –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–ª—Å—è –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π –ø–æ—Å–ª–µ —Å—ä–µ–∑–¥–∞, –∏ –ø—Ä–∏–±—ã–ª –≤ –£–Ω–µ—á—É –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º 30 –º–∞—Ä—Ç–∞.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏–±—ã–ª–∏ –≤ –£–Ω–µ—á—É –≤–µ—Ä—Ö–æ–≤—ã–µ –ø–æ—Å–ª–∞–Ω—Ü—ã –∏–∑ –ú–≥–ª–∏–Ω–∞. –û–Ω–∏ —è–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –ü. –ë. –∏ –¥–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –±–æ–ª—å—à–æ–µ –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—ã –≤–µ–¥—É—Ç —è—Ä–æ—Å—Ç–Ω—É—é –∞–≥–∏—Ç–∞—Ü–∏—é –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏, –Ω–∞—Ä–æ–¥ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –∫—É—á–∫–∞–º–∏, —Å–ª—ã—à–Ω—ã –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç—ã –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –∫ –Ý–°–§–°–Ý.
–®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ, –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥–∞–ª –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è —ç—Ç–æ–º—É —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—é, –ø–æ—Å—á–∏—Ç–∞–ª –µ–≥–æ –ø—Ä–µ—É–≤–µ–ª–∏—á–µ–Ω–Ω—ã–º –∏ 31 –º–∞—Ä—Ç–∞ –≤—ã–µ—Ö–∞–ª –≤–æ –ú–≥–ª–∏–Ω –¥–ª—è –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –£–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ —Å—ä–µ–∑–¥–∞ –°–æ–≤–µ—Ç–æ–≤.
–ù–∞ —ç—Ç–æ–º —Å—ä–µ–∑–¥–µ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª —Ä–µ—à–∞—Ç—å—Å—è –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, –≤—ã–¥–≤–∏–Ω—É—Ç—ã–π –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–º, –æ–± –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –æ—Ç –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –∏ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –≤ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è—Ö –∫ –Ý–°–§–°–Ý.
–ü–æ–≤–µ—Å—Ç–∫–∞ –¥–Ω—è —Å—ä–µ–∑–¥–∞ –Ω–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–µ, –∏ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–∞ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç–∞–º. –°–æ–º–Ω–µ–Ω–∏–π –Ω–µ—Ç –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ—Ç –≤–∞–∂–Ω—ã–π –∏ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, –∫–∞–∫ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ, —Ç–∞–∫ –∏ –≤ —Å–µ–ª–∞—Ö –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è—Ö —É–µ–∑–¥–∞ –±—ã–ª –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–æ–º –æ–±—Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è –∏ –≥–æ—Ä—è—á–∏—Ö —Å–ø–æ—Ä–æ–≤ –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –º–∞—Å—Å–µ –µ—â–µ –¥–æ —Å—ä–µ–∑–¥–∞ –∏ –µ–≥–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è. –ë—ã–ª–∏ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è –æ—Ç –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, –±—ã–ª–∏ –∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ. –í –æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –±—ã–ª–∏ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∑–∞–∂–∏—Ç–æ—á–Ω–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤–∞, –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–µ –∫—É–ª–∞–∫–∏ –∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –≤—Å–µ, –∫–æ–º—É –Ω–µ –ø–æ –Ω—É—Ç—Ä—É –±—ã–ª–∞ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –≤–ª–∞—Å—Ç—å. –í –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –≤ —Ä–µ–∑–∫–æ–π –æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π – –ø—Ä–∞–ø–æ—Ä—â–∏–∫–æ–≤, –≤–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Ö—Å—è —Å —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞, –¥–µ—Ç–µ–π –∫—É—á–µ—Ä–æ–≤, —Å–∞–ø–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –º–µ–ª–∫–∏—Ö —Ä–µ–º–µ—Å–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è [17].
–ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, –Ω–µ –≤—Å–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ —É–µ–∑–¥–∞ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–æ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –∏ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ –æ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–∏ –∫ –Ý–°–§–°–Ý. –¢–æ—Ä–≥–æ–≤—Ü—ã-—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–∏, –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—ã, –∫—É–ª–∞–∫–∏ –∏ –∏—Ö –ø–æ—Å–æ–±–Ω–∏–∫–∏ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –∞–Ω—Ç–∏—Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫—É—é –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥—É. –û–Ω–∏ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ –∫ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —É–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫—É—é –≤–ª–∞—Å—Ç—å –∏ –∏–º –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –∫ —Å—Ç–∞—Ä—ã–º –ø–æ—Ä—è–¥–∫–∞–º.
–ö—Ä–æ–º–µ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç–æ–≤, –ø—Ä–∏–±—ã–≤—à–∏—Ö –∫ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –Ω–∞ —Å—ä–µ–∑–¥, –ø—Ä–∏–±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, –Ω–µ —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –∏–¥–µ—è–º –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –æ–± –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –æ—Ç –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω–∞—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—Å—Ç–≤–∞, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –º–Ω–æ–≥–æ –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª–µ–π –≤—Å—è–∫–∏—Ö –∑—Ä–µ–ª–∏—â –∏ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–π.
–ù–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ –ø–µ—Ä–µ–¥ —É–∏—Å–ø–æ–ª–∫–æ–º–æ–º –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –æ–∫—Ä—É–∂–∏–ª–∞ –æ–∑–≤–µ—Ä–µ–≤—à–∞—è, –æ—Ä—É—â–∞—è —Ç–æ–ª–ø–∞ –∏, —Å–±–∏–≤ –µ–≥–æ —Å –Ω–æ–≥ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é, –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –∏–∑–±–∏–≤–∞—Ç—å —á–µ–º –ø–æ–ø–∞–ª–æ, —Ç–æ–ø—Ç–∞—Ç—å –Ω–æ–≥–∞–º–∏. –í –¥–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏–µ –≤—Å–µ–≥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –∑–≤–µ—Ä—Å—Ç–≤–∞ –∫—Ç–æ-—Ç–æ —à—Ç—ã–∫–æ–º –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤–∫–∏ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª –µ–≥–æ –≤ –∂–∏–≤–æ—Ç.

–ü–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω—ã –ü. –ë. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –∂–µ—Ä—Ç–≤ –º—è—Ç–µ–∂–∞
–ü–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω—ã –ü. –ë. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –∂–µ—Ä—Ç–≤ –º—è—Ç–µ–∂–∞ –Ω–∞ –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–º –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏—Å—å 3 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 1918 –≥–æ–¥–∞ —Å —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ–º –æ—á–µ–Ω—å –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —á–∏—Å–ª–∞ –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –∏ —É–µ–∑–¥–∞. –ó–∞ –≥—Ä–æ–±–æ–º, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞ –ø—É—à–µ—á–Ω—ã–π –ª–∞—Ñ–µ—Ç, —à–ª–∞ —Å–µ–º—å—è –ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–≥–æ, –≤–µ—Å—å —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –°–æ–≤–µ—Ç–∞ –∏ –æ—Ç—Ä—è–¥ –ë–æ–≥—É–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª–∫–∞. –ò–≥—Ä–∞–ª–∞ –ø–æ–ª–∫–æ–≤–∞—è –º—É–∑—ã–∫–∞, –ø—Ä–∏–±—ã–≤—à–∞—è –∏–∑ –£–Ω–µ—á–∏. –ì—Ä–æ–± –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –æ–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏ –≤ –º–æ–≥–∏–ª—É –ø–æ–¥ –ø—É—à–µ—á–Ω—ã–π —Å–∞–ª—é—Ç –∏–∑ —Ç—Ä–µ—Ö –æ—Ä—É–¥–∏–π.
–ú–æ–≥–∏–ª–∞ –ü.–ë. –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ. –§–æ—Ç–æ –í–∏—Ç–∞–ª–∏—è –ß–µ—Ä–µ–Ω—Ü–æ–≤–∞, 2010
–®—Ç–∞–±–æ–º –ö–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–µ–≥–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–≤ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –∂–µ–Ω–µ –ø–æ–≥–∏–±—à–µ–≥–æ –ü–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –ö–æ–º–∏—Å—Å–∞—Ä–∞ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –∏ –ö–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–µ–≥–æ –Ý–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞–º–∏ –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ü. –ë. –ê–Ω–Ω–µ –ú–æ–¥–µ—Å—Ç–æ–≤–Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤—ã–¥–∞–Ω–æ —É–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏–µ –æ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ –µ–π –∏ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞—é—â–∏–º –ª–∏—Ü–∞–º –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–Ω–æ–≥–æ –≤–∞–≥–æ–Ω–∞ –¥–ª—è –ø—Ä–æ–µ–∑–¥–∞ –≤ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –ü—Ä–∏–≤–æ–ª–∂—Å–∫–∏—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤. –í–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å–µ–º—å—è –®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–ª–∞ –≤ –°–≤–µ—Ä–¥–ª–æ–≤—Å–∫–µ.
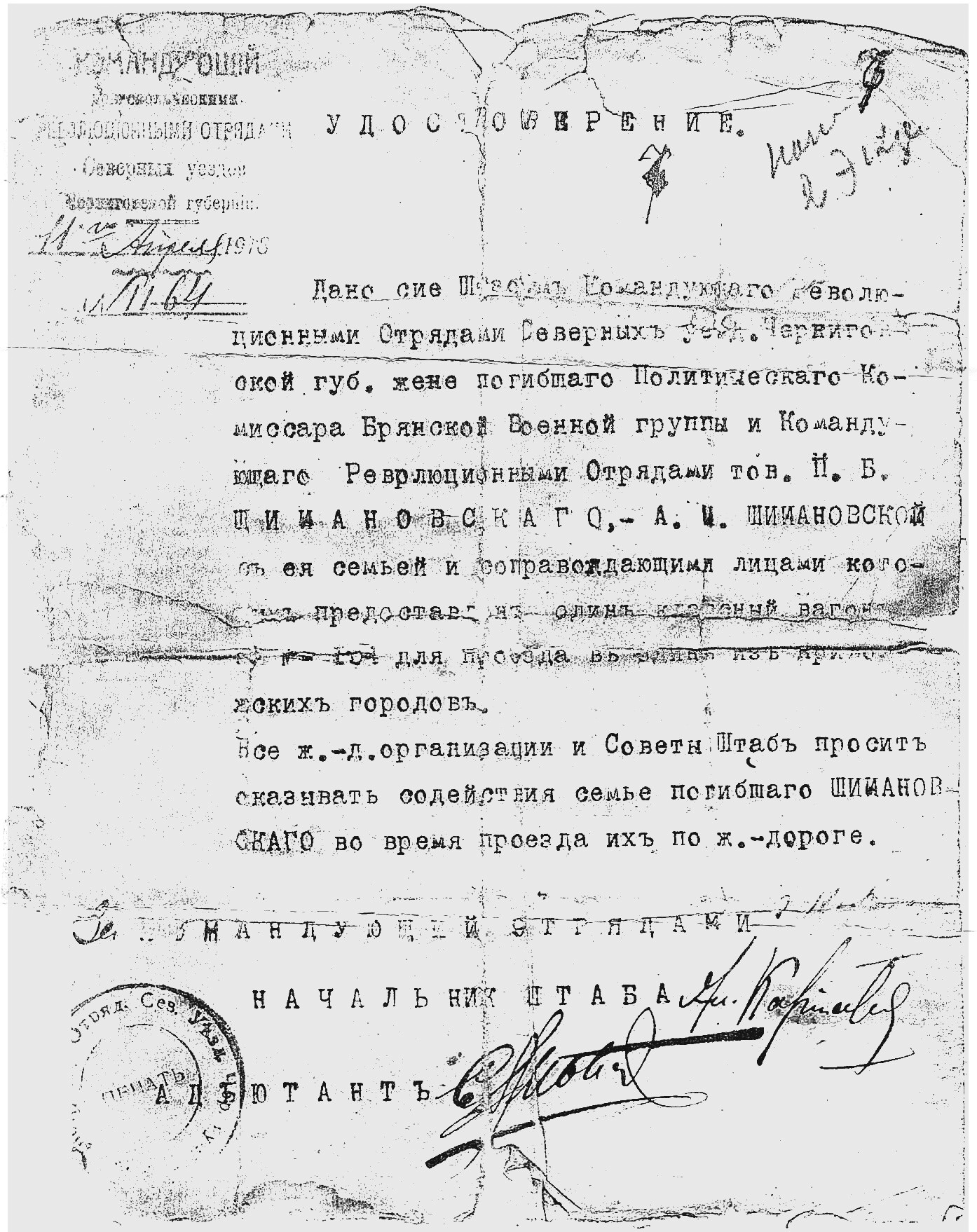 –¢–∞–∫ –ø–æ–≥–∏–± –±–æ–ª—å—à–æ–π –∏ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ –∏ —É–µ–∑–¥–∞, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –æ–±–ª–∞–¥–∞—é—â–∏–π –Ω–µ–∏—Å—Å—è–∫–∞–µ–º–æ–π —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏–µ–π, –±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–º–∏ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏ –∏ –æ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–º —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–æ–º. –°–≤–æ—é –Ω–µ–¥–æ–ª–≥—É—é, –Ω–æ —è—Ä–∫—É—é –∂–∏–∑–Ω—å –æ–Ω –æ—Ç–¥–∞–ª –¥–µ–ª—É –±–æ—Ä—å–±—ã –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∏–Ω–∞ –∑–∞ –∑–µ–º–ª—é –∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–µ –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ. –ò —ç—Ç–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–∞—Ö –∏–∑ –µ–≥–æ –¥–æ—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –≤ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ.
–¢–∞–∫ –ø–æ–≥–∏–± –±–æ–ª—å—à–æ–π –∏ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ –∏ —É–µ–∑–¥–∞, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –æ–±–ª–∞–¥–∞—é—â–∏–π –Ω–µ–∏—Å—Å—è–∫–∞–µ–º–æ–π —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏–µ–π, –±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–º–∏ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏ –∏ –æ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–º —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–æ–º. –°–≤–æ—é –Ω–µ–¥–æ–ª–≥—É—é, –Ω–æ —è—Ä–∫—É—é –∂–∏–∑–Ω—å –æ–Ω –æ—Ç–¥–∞–ª –¥–µ–ª—É –±–æ—Ä—å–±—ã –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∏–Ω–∞ –∑–∞ –∑–µ–º–ª—é –∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–µ –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ. –ò —ç—Ç–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–∞—Ö –∏–∑ –µ–≥–æ –¥–æ—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –≤ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ.
–ï–≥–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–∞—è –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ –û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –ø–æ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –∏ —É–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏—é —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –∏ –µ–≥–æ —É–µ–∑–¥–µ –∑–∞—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –±–æ–ª—å—à–µ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –∫ –µ–≥–æ –ø–∞–º—è—Ç–∏.
–Ý–µ—Ñ–µ—Ä–µ–Ω–¥—É–º –ø–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—é —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —Å–∫–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –æ—Ç –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª—Å—è –≤ –º–∞–µ 1918 –≥. –ø–æ–¥ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏, –∫—É–¥–∞ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –æ—Ç –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, –Ý–°–§–°–Ý, –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π –∏ –¥–∞–∂–µ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Ü—ã. –í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –≤—Å–µ–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –æ–ø—Ä–æ—Å–∞ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –≤—ã—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ –∫ –Ý–°–§–°–Ý. –í –∞–ø—Ä–µ–ª–µ 1919 –≥–æ–¥–∞ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç—ã –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ (—Å –ü–æ—á–µ–ø—Å–∫–∏–º —Ä–∞–π–æ–Ω–æ–º), –ù–æ–≤–æ–∑—ã–±–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ø–æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å —ç—Ç–∏ —É–µ–∑–¥—ã –∫ –ì–æ–º–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å. 11 –∏—é–ª—è 1919 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞—Ä–∫–æ–º–∞—Ç –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏—Ö –¥–µ–ª –Ý–°–§–°–Ý —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –ì–æ–º–µ–ª—å—Å–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–º–∏ —É–µ–∑–¥–∞–º–∏ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –Ý–°–§–°–Ý. –¢–∞–∫ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —É–µ–∑–¥–æ–≤ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –∫ –Ý–°–§–°–Ý –±—ã–ª–æ –æ—Ñ–æ—Ä–º–ª–µ–Ω–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –∞–∫—Ç–æ–º[16].
–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞:
-
–ê. –ú. –õ–∞–∑–∞—Ä–µ–≤—Å–∫–∏–π. –û–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ —Å—Ç–∞—Ä–æ–π –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏, —Ç.I. –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–∏–π –ø–æ–ª–∫. – –ë–µ–ª—ã–µ –ë–µ—Ä–µ–≥–∞, 2008
-
–Ý–æ–¥–æ–≤–æ–¥. http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:252272
-
–ö–æ—Å–∞—á-–ö—Ä–∏–≤–∏–Ω—é–∫ –û–ª—å–≥–∞. –õ–µ—Å—è –£–∫—Ä–∞—ó–Ω–∫–∞. –•—Ä–æ–Ω–æ–ª–æ–≥—ñ—è –∂–∏—Ç—Ç—è —ñ —Ç–≤–æ—Ä—á–æ—Å—Ç—ñ. — –ù—å—é-–ô–æ—Ä–∫, 1970.
-
–í—ñ–∫—ñ–ø–µ–¥—ñ—è. http://uk.wikipedia.org/wiki/–ö–æ—Å–∞—á—ñ
-
–õ.–ò. –î—É–¥–∏—Ü–∫–∏–π-–õ–∏—à–∏–Ω. –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω—ã—Ö –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π –ø–æ–¥–ø. –õ—É–∫–∏ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∞ –î—É–¥–∏—Ü–∫–æ–≥–æ-–õ–∏—à–Ω—è: 1820-1834. http://old.mglin-krai.ru/Imena/Dudickii-Lishin.htm
-
–°. –ê. –ì–∞—Ç—Ü—É–∫. –ù–∞ –º–æ–≥–∏–ª—É –ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥ (–∞—Ä—Ö–µ–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —ç–∫—Å–∫—É—Ä—Å–∏—è 1901 –≥.//–ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥ –∏ –µ–≥–æ –æ–±–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–∏: –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è. – –ë—Ä—è–Ω—Å–∫: –ë–ì–ò–¢–ê, 2012.
-
–Æ. –î–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–∫–æ, –ê. –î—ã–±–∞. –°—ã–Ω –∑–µ–º–ª–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–π. // –ó–∞–≤–µ—Ç—ã –ò–ª—å–∏—á–∞, ‚Ññ 19 (7095) –æ—Ç 15 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 1992 –≥.
-
–ö–æ—Å–∞—á-–ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–∞ –Ü—Å–∏–¥–æ—Ä–∞. –§—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç–∏ —Å–ø–æ–≥–∞–¥—ñ–≤ // –°–ø–æ–≥–∞–¥–∏ –ø—Ä–æ –õ–µ—Å—é –£–∫—Ä–∞—ó–Ω–∫—É. — –í–∏–¥–∞–Ω–Ω—è –¥—Ä—É–≥–µ, –¥–æ–ø–æ–≤–Ω–µ–Ω–µ. — –ö.: –î–Ω—ñ–ø—Ä–æ, 1971.
-
–ú–æ—Ä–æ–∑ –ú. –û. –õ—ñ—Ç–æ–ø–∏—Å –∂–∏—Ç—Ç—è —ñ —Ç–≤–æ—Ä—á–æ—Å—Ç—ñ –õ–µ—Å—ñ –£–∫—Ä–∞—ó–Ω–∫–∏. — –ö.: –ù–∞—É–∫–æ–≤–∞ –¥—É–º–∫–∞, 1992.
-
–ú. –ë–∞–π–¥—É–∂–Ω—ã–π. –¢–µ—Ç–∫–∏-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫–∏ –õ–µ—Å–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∏. http://zwiahel.ucoz.ru/novograd/history/tetki_Leci.html
-
–ò–∑ —Å–ø—Ä–∞–≤–∫–∏ — –î–µ–ª–∞ –î–µ–ø–∞—Ä—Ç. –ø–æ–ª–∏—Ü.: V, ‚Ññ 383 (1881); III, ‚Ññ 802 (1886)
-
–°–ø–∏—Å–æ–∫ —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤, –æ–∫–æ–Ω—á–∏–≤—à–∏—Ö –∫—É—Ä—Å –≤ –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–º —É—á–∏–ª–∏—â–µ —Å–∞–¥–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ –∏ –≤ –£–º–∞–Ω—Å–∫–æ–º —É—á–∏–ª–∏—â–µ –∑–µ–º–ª–µ–¥–µ–ª–∏—è –∏ —Å–∞–¥–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ —Å 1900 –ø–æ 1921 –≥–æ–¥ http://www.udau.edu.ua/ru/departments/museum/nashi-vipuskniki/vipuskniki-1900-1921-rokiv.html
-
–Ü–≤–∞–Ω –î–µ–Ω–∏—Å—é–∫, –¢–∞–º–∞—Ä–∞ –°–∫—Ä–∏–ø–∫–∞. –û–∫—Å–∞–Ω–∞ –ü–µ—Ç—Ä—ñ–≤–Ω–∞ –ö–æ—Å–∞—á-–®–∏–º–∞–Ω–æ–≤—Å—å–∫–∞. http://www.t-skrypka.name/LUkrainka/Gnizdo/Figures/OksanaKosachShymanovska.html#Line32
-
–ú–æ—Ä–æ–∑–æ–≤ –ö.–ù. –ü–∞—Ä—Ç–∏—è —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤ –≤ 1907-1914 –≥–≥. - –ú.: –Ý–û–°–°–ü–≠–ù, 1998.
-
–ó. –ï. –ü—Ä–æ—Ç—á–µ–Ω–∫–æ. –ó–µ–º–ª—è –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∞—è – —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∫—Ä–∞–π (–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –ø–æ–≤–µ—Å—Ç—å). – –ë—Ä—è–Ω—Å–∫, 2003
-
–ë–∞—Ç—É—Ä–∫–æ –§. –§. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ-—ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –æ—á–µ—Ä–∫ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è. http://www.mglin-krai.ru
-
–ü—Ä–æ—Ç—á–µ–Ω–∫–æ –ó. –ï. –ë–æ–ª—å —á—É–∂—É—é –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª.//–ó–∞–≤–µ—Ç—ã –ò–ª—å–∏—á–∞, ‚Ññ 20 (5717) –æ—Ç 14 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 1989 –≥.
–°–µ–ª–æ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü – —Ä–æ–¥–æ–≤–æ–µ –∏–º–µ–Ω–∏–µ «–±–∞–±—É—à–∫–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏» –ï. –ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π
–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω –í–µ—Ä–∏–≥–æ –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü
–ò–º—è –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π (—É—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω–æ–π –í–µ—Ä–∏–≥–æ) –≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–º –°–æ—é–∑–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∑–∞—Å–ª—É–∂–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–±—ã—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∞ –û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫—É—é —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—é –∏ —Ä–µ–∑–∫–æ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ –∏—Ö –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –∂–∏–≤–æ–π –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ–≤ –∏ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π –∫ –µ–µ –∂–∏–∑–Ω–∏, –µ–µ –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞–º, —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ —Ç–æ–π —Ä–æ–ª–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –æ–Ω–∞ –∏–≥—Ä–∞–ª–∞ –≤ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤, –¥–∞ –∏ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º –≤ –ø—Ä–µ–¥—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ù–∞—á–∞–≤ –≤ 1873 –≥. —Å–≤–æ—é –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —Å «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥», –æ–Ω–∞ –∑–∞—Ç–µ–º —Å—Ç–∞–ª–∞ –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –∏ –ª–∏–¥–µ—Ä–æ–≤ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤, —Å–∞–º–æ–π –∫—Ä—É–ø–Ω–æ–π –æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏.
–í —Å—Ç–∞—Ç—å–µ «–ï.–ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –∏ –µ–µ –¥—Ä—É–∑—å—è –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏», –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å—Ç–≤–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–∏–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ê.–§. –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–º—É, –æ –Ω–µ–π —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ: «–ñ–∏–∑–Ω—å –ö–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π - –∂–∏–≤–∞—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —Ü–µ–ª–æ–≥–æ —Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–∏—è, –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –ø—É—Ç—å –æ—Ç –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∞, —á–µ—Ä–Ω–æ–π —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è I –¥–æ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–π —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏ –õ–µ–Ω–∏–Ω–∞, –∫–æ–º–º—É–Ω–∏–∑–º–∞. –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –∏ –Ω–∏–≥–¥–µ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –æ–¥–Ω–æ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è –Ω–µ —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å —Ç–∞–∫–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é».
–ï–µ –∂–∏–∑–Ω—å –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —è—Ä–∫–∞, –Ω–µ—Å—Ç–∞–Ω–¥–∞—Ä—Ç–Ω–∞ –∏ –Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –±–æ—Ä—å–±–æ–π –∑–∞ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å, —á—Ç–æ —É–∂–µ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –µ–µ – «–±–∞–±—É—à–∫–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏». –ò–∑ –æ—Ç–ø—É—â–µ–Ω–Ω—ã—Ö –µ–π 90 –ª–µ—Ç, –±–æ–ª–µ–µ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ–≤–µ–ª–∞ –≤ —Ç—é—Ä—å–º–∞—Ö (–∏–∑ –Ω–∏—Ö —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞ - –≤ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫–µ –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–∏), –Ω–∞ –∫–∞—Ç–æ—Ä–≥–µ –∏ –≤ —Å—Å—ã–ª–∫–µ –≤ –°–∏–±–∏—Ä–∏ (1874-1896, 1907-1917 –≥–≥.). –û–Ω–∞ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞, –æ—Å—É–∂–¥—ë–Ω–Ω–∞—è –ø–æ «–ü—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å—É 193-—Ö» –Ω–∞ –∫–∞—Ç–æ—Ä–≥—É –∏ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –≤ –°–∏–±–∏—Ä—å.
–ü–æ—ç—Ç –Ø–∫–æ–≤ –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–∏–π –≤ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ «–£–∑–Ω–∏—Ü–∞», –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–º –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª —Ç–∞–∫–∏–µ —Å—Ç—Ä–æ–∫–∏:
–ß—Ç–æ –º–Ω–µ –æ–Ω–∞!- –Ω–µ –∂–µ–Ω–∞, –Ω–µ –ª—é–±–æ–≤–Ω–∏—Ü–∞,
–ò –Ω–µ —Ä–æ–¥–Ω–∞—è –º–Ω–µ –¥–æ—á—å!
–¢–∞–∫ –æ—Ç—á–µ–≥–æ –∂ –µ–µ –¥–æ–ª—è –ø—Ä–æ–∫–ª—è—Ç–∞—è
–°–ø–∞—Ç—å –Ω–µ –¥–∞–µ—Ç –º–Ω–µ –≤—Å—é –Ω–æ—á—å!
–°–ø–∞—Ç—å –Ω–µ –¥–∞–µ—Ç, –æ—Ç—Ç–æ–≥–æ —á—Ç–æ –º–Ω–µ –≥—Ä–µ–∑–∏—Ç—Å—è
–ú–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç—å –≤ –¥—É—à–Ω–æ–π —Ç—é—Ä—å–º–µ,
–í–∏–∂—É —è - —Å–≤–æ–¥—ã... –æ–∫–Ω–æ –∑–∞ —Ä–µ—à–µ—Ç–∫–æ—é,
–ö–æ–π–∫—É –≤ —Å—ã—Ä–æ–π –ø–æ–ª—É—Ç—å–º–µ...
–ü–æ—Å–ª–µ –§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –≤ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—É –∏–∑ —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –≤ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –¥–ª—è –Ω–µ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º –≤–∞–≥–æ–Ω–µ –∏ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∞ –≤ –ó–∏–º–Ω–µ–º –î–≤–æ—Ä—Ü–µ. –¢—Ä–∏—É–º—Ñ, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –µ–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∞ –≤ –∞–ø—Ä–µ–ª–µ 1917 –≥. —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è, –º–æ–∂–Ω–æ –ª–∏—à—å —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Å —Ç–µ–º –ø–æ—á–µ—Ç–æ–º –∏ –∞—Ç–º–æ—Å—Ñ–µ—Ä–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –æ–∫–æ–ª–æ 20 –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥ –æ–∫—Ä—É–∂–∞–ª–∞ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –°–æ–ª–∂–µ–Ω–∏—Ü—ã–Ω–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é –∏–∑ –°–®–ê. –°–æ–ª–∂–µ–Ω–∏—Ü—ã–Ω –∏–∑—É—á–∞–ª –∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–Ω–∞–ª —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è, —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–≤—à–∏–µ –§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫—É—é —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—é, –∏, –±–µ–∑—É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ, –ø—Ä–∏ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ —Å—Ü–µ–Ω–∞—Ä–∏—è —Å–≤–æ–µ–≥–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é, –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—É—é –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º –≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –∫–∞–∫ –≤–∞–∂–Ω—ã–π –ø—Ä–∏–º–µ—Ä –¥–ª—è —Å–µ–±—è.
–ù–æ –∏—Å—Ç–æ–∫–∏ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–∑–∑—Ä–µ–Ω–∏—è –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏ –≤—ã–±–æ—Ä –∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏, –±—ã–ª –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –µ—é –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω —É–∂–µ –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –µ–µ –æ—Ç—Ü–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–∞ –í–µ—Ä–∏–≥–æ –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏.

–ü–æ—Ä—Ç—Ä–µ—Ç –ï. –ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –∞—Ä—Ö–∏–≤ –Ý–ì–ê–ö–§–î
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –í–µ—Ä–∏–≥–æ (–≤ –∑–∞–º—É–∂–µ—Å—Ç–≤–µ –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è) —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≤ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π —Å–µ–º—å–µ 13 —è–Ω–≤–∞—Ä—è (–ø–æ —Å—Ç–∞—Ä–æ–º—É —Å—Ç–∏–ª—é) 1844 –≥–æ–¥–∞ –≤ —Å–µ–ª–µ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–æ –ù–µ–≤–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –í–∏—Ç–µ–±—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –ú–∏—Ö–µ–ª—å—Å–æ–Ω–∞, –∞—Ä–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º –µ–µ –æ—Ç—Ü–æ–º – –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–º –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–µ–º –í–µ—Ä–∏–≥–æ. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –µ–µ —Å–µ–º—å—è –Ω–µ–Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª–∞ –≤ —Å–µ–ª–æ –ì–æ—Ä—è–Ω—ã –ü–æ–ª–æ—Ü–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ —Ç–æ–π –∂–µ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –æ—Ç–µ—Ü –≤—ã–∫—É–ø–∏–ª —Ä–æ–¥–æ–≤–æ–µ –∏–º–µ–Ω–∏–µ —Å–µ–ª–æ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏. –í —ç—Ç–æ–º –∏–º–µ–Ω–∏–∏, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–µ–º—Å—è –Ω–∞ —Å—Ç—ã–∫–µ —Ç—Ä–µ—Ö –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–π, –±—É–¥—É—â–∞—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫–∞ – «–±–∞–±—É—à–∫–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏» – –ø—Ä–æ–∂–∏–ª–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Å–µ–º—å –ª–µ—Ç.

–ö–∞—Ä—Ç–∞-—Å—Ö–µ–º–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è
–Ý–æ–¥–æ–≤–æ–µ –∏–º–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç—Ü–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –≤ 15 –∫–º. —Å–µ–≤–µ—Ä–æ-–∑–∞–ø–∞–¥–Ω–µ–µ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞, –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –º–µ—Å—Ç–∞ –≤–ø–∞–¥–µ–Ω–∏—è —Ä. –í–æ—Ä–æ–Ω—É—Å—ã –≤ –ò–ø—É—Ç—å. –°–µ–ª–æ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–æ –ø–æ –æ–±–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –±–µ–∑—ã–º—è–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä—É—á—å—è, –≤–ø–∞–¥–∞—é—â–µ–≥–æ –≤ —Ä–µ—á–∫—É –ö–æ–±—ã–ª–µ–Ω–∫—É (–ø—Ä–∏—Ç–æ–∫ —Ä. –í–æ—Ä–æ–Ω—É—Å—ã) –≤–±–ª–∏–∑–∏ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã —Å–µ–ª–∞. –í–ø–æ–ª–Ω–µ –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ —Å–µ–ª–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –æ—Ç —Å–ª–∏—è–Ω–∏—è –¥–≤—É—Ö —Å–ª–æ–≤ — «–ª—É–≥» –∏ «–æ–≤–µ—Ü», —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤–±–ª–∏–∑–∏ –æ–±—à–∏—Ä–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–ª–∏–≤–Ω–æ–≥–æ –ª—É–≥–∞, –≥–¥–µ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–∞—Å—Ç–∏ –±–æ–ª—å—à–∏–µ —Å—Ç–∞–¥–∞ –æ–≤–µ—Ü.
–í –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞—Ö –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ XVIII –≤–µ–∫–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–æ–º —Å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–º —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–º –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º 23 –¥–≤–æ—Ä–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∏ –ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫—É –ò–≥–Ω–∞—Ç—É –ß–µ—Å–Ω–æ–∫—É. –í 1783 –≥–æ–¥—É –¥. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –ø–æ–∫–∞–∑–∞–Ω–∞ –∑–∞ –±—É–Ω—á—É–∫–æ–≤—ã–º —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–º –ü–µ—Ç—Ä–æ–º –ê—Ñ–∞–Ω–∞—Å—å–µ–≤–∏—á–µ–º –®–∫–ª—è—Ä–µ–≤–∏—á–µ–º. –ü–µ—Ç—Ä –®–∫–ª—è—Ä–µ–≤–∏—á –∂–µ–Ω–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –¢–∞—Ç—å—è–Ω–µ –ß–µ—Å–Ω–æ–∫ –∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –≤ –ø—Ä–∏–¥–∞–Ω–æ–µ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –æ—Ç —Ç–µ—Å—Ç—è –ò–≥–Ω–∞—Ç–∞ –ß–µ—Å–Ω–æ–∫–∞. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ XVIII –≤–µ–∫–∞ –¥. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü —Å—Ç–∞–ª–∞ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–µ–º –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–∞ –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤—ã–∫—É–ø–∏–ª —ç—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–∏–µ —É –∑–Ω–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ –∫–∞–∑–∞–∫–∞ –®–∏—Ä–∞—è. –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª –∫ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω–æ–º—É –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–º—É —Ä–æ–¥—É —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è, –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–º—É –≤ VI —á–∞—Å—Ç—å —Ä–æ–¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–≥–∏ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏. –Ý–æ–¥–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–æ–º –µ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –Ø–∫—É–±–∏–π, –∑–Ω–∞—Ç–Ω—ã–π –ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–π —à–ª—è—Ö—Ç–∏—á, —Å–ª—É–∂–∏–≤—à–∏–π –≤ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–º –≤–æ–π—Å–∫–µ. –í—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏–∫ –ü–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á –í–µ—Ä–∏–≥–æ –±—ã–ª –≤ 1828 –≥. –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω –≤ –ø—Ä–∞–ø–æ—Ä—â–∏–∫–∏ –ª–µ–π–±-–≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏ –í—Ç–æ—Ä–æ–π –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–æ–π –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã –∏ —É–≤–æ–ª–µ–Ω –≤ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∫—É –≤ 1831 –≥. –ø–æ–¥–ø–æ—Ä—É—á–∏–∫–æ–º.
–ü—Ä—É–¥, —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏ –∏ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–∞—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –ö. –ú. –í–µ—Ä–∏–≥–æ –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ —É—Å–∞–¥–µ–±–Ω—ã–π –¥–æ–º, —Ñ–æ—Ç–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ XX—Å—Ç.
–í–æ—Ç —á—Ç–æ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç –ï. –ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –æ–± –∏–º–µ–Ω–∏–∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –æ—Ç—Ü–∞:
«–ó–∞ –ø—Ä—É–¥–æ–º, —á—Ç–æ –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–∏ –¥–≤–æ—Ä–∞, —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –ø—Ç–∏—á—å—è –∏–∑–±–∞, –∏ —Å–ª—ã—à–Ω–æ, –∫–∞–∫ –≥—É—Å–∏ –≥–æ–≥–æ—á—É—Ç, –∫—É—Ä—ã –∫—É–¥–∞—Ö—á—É—Ç. –¢—É–¥–∞ –Ω–∞—Å –Ω–µ –≤–æ–¥—è—Ç - «—Ç–∞–º –≤–∞–º –Ω–µ –º–µ—Å—Ç–æ» - –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –Ω—è–Ω—å–∫–∞. –ù–æ –≤—Å–µ —Å—Ç—Ä–µ–º–ª—é—Å—å —Ç—É–¥–∞, –∏ –≤–æ—Ç —è —É–∂–µ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É –ø—Ä—É–¥–∞ - –≥—É—Å–∏, —É—Ç–∫–∏, –∫—É—Ä—ã –∫—Ä—É–≥–æ–º. –í–æ—Ç –∏ –¢–∞—Ç—å—è–Ω–∞-–ø—Ç–∏—á–Ω–∏—Ü–∞, –∞ –∑–∞ –µ–µ –ø–æ–¥–æ–ª –¥–µ—Ä–∂–∏—Ç—Å—è –º–∞–ª—å—á–æ–Ω–∫–∞ –µ—â–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –º–µ–Ω—è, –¥–≤—É—Ö–ª–µ—Ç–Ω–∏–π –ú–∏—Ö–∞–ª–∫–∞. –û–Ω –≤ –≥—Ä—è–∑–Ω–æ–π —Ä—É–±–∞—à–æ–Ω–∫–µ, –ø—É–∑–æ –≤—ã–ø–∏—Ä–∞–µ—Ç –≤–ø–µ—Ä–µ–¥, –Ω–æ–∂–∫–∏ –≥—Ä—è–∑–Ω—ã–µ –æ—Ç –≤–æ–∑–Ω–∏ –≤ –º–æ–∫—Ä–æ–π –∑–µ–º–ª–µ. –ö–∞–∫–æ–π –Ω–µ–ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫! –Ø –±–µ—Ä—É –ú–∏—Ö–∞–ª–∫—É –∑–∞ —Ä—É–∫—É –∏ –≤–µ–¥—É —Å —Å–æ–±–æ–π, –¢–∞—Ç—å—è–Ω–∞ –æ–¥–æ–±—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª—ã–±–∞–µ—Ç—Å—è. –í–æ—Ç –º—ã –∏ –≤ «–∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞—Ö». «–ß—Ç–æ —ç—Ç–æ? –û—Ç–∫—É–¥–∞? –ö–∞—Ç—è –≤–µ—á–Ω–æ —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –≤—ã–¥—É–º–∞–µ—Ç!». –ù–æ —è –Ω–µ —Å–º—É—â–∞—é—Å—å. –Ø –∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ –ú–∏—Ö–∞–ª–∫–µ –Ω–∞–¥–æ –¥–∞—Ç—å –±—É–ª–∫–∏ –∏ —Å–∞—Ö–∞—Ä–∞, —Ä—É–±–∞—à–∫—É –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω–∏—Ç—å...».
–ü–ª–∞–Ω –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã –ù. –ö. –í–µ—Ä–∏–≥–æ (–∏–∑ –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞ –í. –ù. –ì–æ—Ä–æ–¥–∫–æ–≤–∞, 1970 –≥.)
–ü–æ—Å–ª–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –æ—Ç—Ü–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–∞ —Å–µ–ª–æ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –ø–æ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤—É –ø–µ—Ä–µ—à–ª–æ –∫ —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–º—É —Å—ã–Ω—É –ù–∏–∫–æ–ª–∞—é (1841-1912).
–ò–º—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –º—ã –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–µ–º –≤ –ü–∞–º—è—Ç–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–∂–∫–µ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –∑–∞ 1862 –≥., –≥–¥–µ –≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏ –ø–æ–¥–ø–æ—Ä—É—á–∏–∫ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –í–µ—Ä–∏–≥–æ —É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –ú–∏—Ä–æ–≤–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–∫–∞ –Ý–æ–º–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∫–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å—É–¥–∞. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –µ–º—É –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å 21 –≥–æ–¥. –ß–µ—Ä–µ–∑ 16 –ª–µ—Ç —Ç–∏—Ç—É–ª—è—Ä–Ω—ã–π —Å–æ–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á —É–∂–µ «–Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π» —á–ª–µ–Ω —Å—ä–µ–∑–¥–∞ –ú–∏—Ä–æ–≤—ã—Ö —Å—É–¥–µ–π, –ú–∏—Ä–æ–≤–æ–π —Å—É–¥—å—è 2-–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∫–∞, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –≥–ª–∞—Å–Ω—ã–π –ó–µ–º—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –æ—Ç —É–µ–∑–¥–Ω—ã—Ö –∑–µ–º–ª–µ–≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–≤.
|
–ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á –í–µ—Ä–∏–≥–æ (1841-1912) |
|
–≠—Ç–∞ –≤—ã–±–æ—Ä–Ω–∞—è –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –±—ã–ª–∞ –≤–≤–µ–¥–µ–Ω–∞ –≤ 1864 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ –ø–æ—Å–ª–µ –æ—Ç–º–µ–Ω—ã –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∞ –±—ã–ª–æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–æ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–µ –∑–µ–º—Å—Ç–≤–æ, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –æ—Ä–≥–∞–Ω –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –¥–µ–ª–∞–º–∏, –∫–∞—Å–∞—é—â–∏–º–∏—Å—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞. –Ý–∞—Å–ø–æ—Ä—è–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∞–º–∏ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Å—Ç–∞–ª–∏ –∑–µ–º—Å–∫–∏–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è: –≤ —É–µ–∑–¥–µ — —É–µ–∑–¥–Ω–æ–µ, –≤ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ — –≥—É–±–µ—Ä–Ω—Å–∫–æ–µ. –í—ã–±–æ—Ä—ã –≤ —É–µ–∑–¥–Ω—ã–µ –∑–µ–º—Å–∫–∏–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –æ—Å–Ω–æ–≤–µ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ü–µ–Ω–∑–∞. –í—Å–µ –∏–∑–±–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª–∏ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω—ã –Ω–∞ —Ç—Ä–∏ –∫—É—Ä–∏–∏: 1) —É–µ–∑–¥–Ω—ã—Ö –∑–µ–º–ª–µ–≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–≤, 2) –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏—Ö –∏–∑–±–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª–µ–π, 3) –≤—ã–±–æ—Ä–Ω—ã—Ö –æ—Ç —Å–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —É–µ–∑–¥–Ω—ã—Ö –∑–µ–º—Å–∫–∏—Ö –≥–ª–∞—Å–Ω—ã—Ö –∏–∑–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –∑–µ–º–ª–µ–≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—ã, –∑–∞–∂–∏—Ç–æ—á–Ω—ã–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –∏ –∏–º—É—â–∏–µ –≥–æ—Ä–æ–∂–∞–Ω–µ.
–û–¥–Ω–æ–π –∏–∑ —Ü–µ–ª–µ–π —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—è –∑–µ–º—Å—Ç–≤ –±—ã–ª–æ, –ø–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏—Ö –¥–µ–ª –õ–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ «–≤–æ–∑–Ω–∞–≥—Ä–∞–¥–∏—Ç—å –¥–≤–æ—Ä—è–Ω –∑–∞ –ø–æ—Ç–µ—Ä—é –ø–æ–º–µ—â–∏—á—å–µ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏», –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –∏–º «–ø–µ—Ä–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ –≤ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–∏» (–±—ã–ª —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π, –∞ —Å 1890 –≥–æ–¥–∞ –∏ —Å–æ—Å–ª–æ–≤–Ω—ã–π –∏–∑–±–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ü–µ–Ω–∑).
–í –≤–µ–¥–µ–Ω–∏–∏ –∑–µ–º—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã, –≤–µ—Ç–ª–µ—á–µ–±–Ω–∏—Ü—ã, —à–∫–æ–ª—å–Ω–æ–µ –∏ –¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ, –≤–∑–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∑–µ–º–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤, –∞–≥—Ä–æ—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –ø–æ–º–æ—â—å –≤—Å–µ—Ö –æ—Ç—Ä–∞—Å–ª–µ–π —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞ –∏ –º–µ–ª–∏–æ—Ä–∞—Ü–∏–∏, —Å–Ω–∞–±–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –æ—Ä—É–¥–∏—è–º–∏ –∏ –∏–Ω–≤–µ–Ω—Ç–∞—Ä–µ–º.
–û–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑ –≤ —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞ –∑–µ–º—Å–∫–∏—Ö —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è—Ö —É–µ–∑–¥–Ω—ã–µ –∑–µ–º—Å–∫–∏–µ –≥–ª–∞—Å–Ω—ã–µ –∏–∑–±–∏—Ä–∞–ª–∏ —Å–≤–æ–π –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –æ—Ä–≥–∞–Ω – —É–µ–∑–¥–Ω—É—é –∑–µ–º—Å–∫—É—é —É–ø—Ä–∞–≤—É. –í —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è –∏ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —á–ª–µ–Ω–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª–∏—Å—å –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–æ–º. –í—Å—è –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –∑–µ–º—Å—Ç–≤–∞, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –æ–Ω–∞ —è–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –≤—ã–±–æ—Ä–Ω–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–µ–π, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ–¥ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—ã–º –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–µ–º –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–∞. –£–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ –∑–µ–º—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ –≤ –¥–≤—É—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω–æ–º –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω–æ–º –¥–æ–º–µ, –∫—É–ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –∑–µ–º—Å—Ç–≤–æ–º —É –≥—Ä–∞—Ñ–∞ –ì—É–¥–æ–≤–∏—á–∞.
–í –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–∞ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≥–ª–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –ù. –ö. –í–µ—Ä–∏–≥–æ –ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–º –∑–∞–ø–∏—Å—å —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –ó–µ–º—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –∑–∞ 11 –æ–∫—Ç—è–±—Ä—è 1899 –≥–æ–¥–∞:
«–ß–∏—Ç–∞–Ω–æ –ø—Ä–æ—à–µ–Ω—ñ–µ —É—á–∏—Ç–µ–ª—è –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü–∫–∞–≥–æ —É—á–ø–ª–ø—â–∞ –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–∞–≥–æ –æ–±—ä –∞—Å—Å–∏–≥–Ω–æ–≤–∞–Ω—ñ–∏ 30 —Ä. –¥–ª—è –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—ã —É—á–∏—Ç–µ–ª—è –∑–∞ –Ω–µ–∏–º–µ–Ω—ñ–µ–º—ä —Ç–∞–∫–æ–≤–æ –ø—Ä–∏ —É—á–∏–ª–∏—â–µ. –°–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—ñ–µ –ø–æ—Å–ª–µ –ø—Ä–µ–Ω—ñ–π, –≤—ä –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö—ä –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —É—á–∞—Å—Ç—ñ–µ –ì. –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –°–æ–±—Ä–∞–Ω—ñ—è, –ò. –°. –ö–ª–∏–º–µ–Ω–∫–æ, –î. –Ø. –î—É–Ω–∏–∏—ä –ë–∞—Ä–∫–æ–≤—Å–∫—ñ–π, –ü. –ü. –ë—É–ª–∞—à–µ–≤–∏—á—ä –∏ –ù. –ö. –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –ü–û–°–¢–ê–ù–û–í–ò–õ–û: –ø–æ—Ä—É—á–∏—Ç—å –£–ø—Ä–∞–≤–µ —Å–Ω–µ—Å—Ç–∏—Å—å —Å—ä –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º—ä —Å. –õ—É–≥–æ–≤—Ü–∞ –æ–±—ä –æ—Ç–≤–æ–¥–µ —É—á–∏—Ç–µ–ª—é –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—ã».
–í –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –≥–æ–¥—ã –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ—Ç –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ó–µ–º—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∫–∞ –∏ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–∞–µ—Ç —Å–≤–æ—é –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –≤ –ó–µ–º—Å–∫–æ–π —É–ø—Ä–∞–≤–µ –≤ 1892 –≥. –≤ —Ä–∞–Ω–≥–µ —Å—Ç–∞—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫–∞ (–ø—è—Ç–∞—è —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å –≤ —Ç–∞–±–µ–ª–∏ –æ —Ä–∞–Ω–≥–∞—Ö –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏). –û–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –æ–Ω —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è «–ó–∞—Å—Ç—É–ø–∞—é—â–∏–º –º–µ—Å—Ç–æ» –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è (—Å—ä–µ–∑–¥–∞). –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –ø–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—é —Ç–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª –£–µ–∑–¥–Ω—ã–π –ø—Ä–µ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–∞ – –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∞—Ç–≤–µ–µ–≤–∏—á –°–∫–∞—Ä–∂–∏–Ω—Å–∫–∏–π.
 –ü–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –Ω–∞ –º–æ–≥–∏–ª–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –∏ –ú–∞—Ä–∏–∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω—ã –ü–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –Ω–∞ –º–æ–≥–∏–ª–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –∏ –ú–∞—Ä–∏–∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω—ã |
–ü–æ—Å–ª–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏—è —Å–≤–æ–µ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –≤ –ó–µ–º—Å–∫–æ–π —É–ø—Ä–∞–≤–µ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏ —Å–µ–±—è —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é —Å–≤–æ–∏–º –∏–º–µ–Ω–∏–µ–º –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –û–Ω —É–º–µ—Ä 27 –∏—é–ª—è 1912 –≥., –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü.
–ú–ª–∞–¥—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã – –í–∞—Å–∏–ª–∏–π – —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ 1847 –≥. –û–Ω, –±—É–¥—É—á–∏ –∫–æ–ª–ª–µ–∂—Å–∫–∏–º —Å–æ–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫–æ–º (—à–µ—Å—Ç–∞—è —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å –≤ —Ç–∞–±–µ–ª–∏ –æ —Ä–∞–Ω–≥–∞—Ö –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏), —Å 1903 –≥. –ø–æ 1910 –≥. –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ù–∞–¥–∑–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª—è 4 –æ–∫—Ä—É–≥–∞ –∞–∫—Ü–∏–∑–Ω–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —Ä–∞–∑–º–µ—â–∞–ª–æ—Å—å –≤ –≥. –ù–æ–≤–æ–∑—ã–±–∫–æ–≤–µ.
–í —Å–µ–º—å–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –∏ –ú–∞—Ä–∏–∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω—ã –±—ã–ª–æ —à–µ—Å—Ç—å –¥–µ—Ç–µ–π.
–°—Ç–∞—Ä—à–∏–π —Å—ã–Ω –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ 1877 –≥., –≤—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏–∫ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ü–æ–ª—Ç–∞–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞ 1894 –≥–æ–¥–∞. –ü–æ—Å–ª–µ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ —É—á–∏–ª–∏—â–∞ –±—ã–ª –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω –≤ 3 –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫—É—é –±—Ä–∏–≥–∞–¥—É. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –∏–∑-–∑–∞ —Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è, –≤—ã—à–µ–ª –≤ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∫—É –≤ —á–∏–Ω–µ —à—Ç–∞–±—Å-–∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω–∞ –∑–∞–ø–∞—Å–∞ –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª —Å–≤–æ—é –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å, –∫–∞–∫ –∏ –µ–≥–æ –æ—Ç–µ—Ü, –≤ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∞—Ö –∑–µ–º—Å–∫–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–ª–∞. –í 1910 –≥. —à—Ç–∞–±—Å-–∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω –∑–∞–ø–∞—Å–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –∫–∞–∫ —á–ª–µ–Ω –ó–µ–º—Å–∫–æ–π —É–ø—Ä–∞–≤—ã, –∑–∞—Ç–µ–º, –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ –û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π –Ý–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è «–ó–∞—Å—Ç—É–ø–∞—é—â–∏–º –º–µ—Å—Ç–æ –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è» —É–ø—Ä–∞–≤—ã, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ —á–ª–µ–Ω–æ–º –£–µ–∑–¥–Ω–æ–≥–æ —É—á–∏–ª–∏—â–Ω–æ–≥–æ –°–æ–≤–µ—Ç–∞ –æ—Ç –∑–µ–º—Å—Ç–≤–∞.
–°—ã–Ω –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π, –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ö–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á –∏ –µ–≥–æ –∂–µ–Ω–∞ –ú–∞—Ä–∏—è –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–Ω–∞, —Ñ–æ—Ç–æ –≤ —É—Å–∞–¥—å–±–µ –í–µ—Ä–∏–≥–æ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, –Ω–∞—á–∞–ª–æ XX —Å—Ç.
–ú–ª–∞–¥—à–∏–π —Å—ã–Ω –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ – –ë–æ—Ä–∏—Å – —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ 1886 –≥., –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∏–∫ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ü–æ–ª—Ç–∞–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞. –ü–æ-–≤–∏–¥–∏–º–æ–º—É, –∏–∑-–∑–∞ –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç—Ä–∞–≤–º—ã –≤ 1903 –≥. –±—ã–ª –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω –Ω–∞ –ø–æ–ø–µ—á–µ–Ω–∏–µ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ. –°–ª—É–∂–±—É –Ω–∞—á–∞–ª –≤ 1912 –≥. –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –∞–≥—Ä–æ–Ω–æ–º–∞ –í–æ—Ä–æ–±–µ–π–Ω–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∫–∞ –∑–µ–º—Å–∫–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –≤ –¥. –ö—É—á–µ–µ–≤–æ, –∞ —Å 1914 –≥. –æ–Ω —É–∂–µ –∞–≥—Ä–æ–Ω–æ–º –≤ –≥. –ú–≥–ª–∏–Ω–µ. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ —É–µ—Ö–∞–ª –∫ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º –∂–µ–Ω—ã –ï–ª–∏–∑–∞–≤–µ—Ç—ã –ú–æ–¥–µ—Å—Ç–æ–≤–Ω—ã –≤ –ú–∞–ª–∞—Ö–æ–≤–∫—É –ø–æ–¥ –ú–æ—Å–∫–≤–æ–π. –ò–º–µ—é—Ç—Å—è —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è, —á—Ç–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –≤ –ò–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–µ –≥–µ–Ω–µ—Ç–∏–∫–∏ –ê–ù –°–°–°–Ý, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å 1941 –≥. –≤–æ–∑–≥–ª–∞–≤–∏–ª –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∫ –¢. –î. –õ—ã—Å–µ–Ω–∫–æ. –î–æ—á—å –ë–æ—Ä–∏—Å–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ – –ì–∞–ª–∏ – –≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞–º—É–∂ –∑–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–∏—á–∞ –õ–∏—à–∏–Ω–∞ – —Ç–∞–∫ –ø–æ—Ä–æ–¥–Ω–∏–ª–∏—Å—å –¥–≤–∞ –æ—á–µ–Ω—å –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–∞ – –í–µ—Ä–∏–≥–æ –∏ –õ–∏—à–∏–Ω—ã. –£–º–µ—Ä –ë. –ù. –í–µ—Ä–∏–≥–æ –≤ 1942 –≥., –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω –Ω–∞ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ –≤ –ú–∞–ª–∞—Ö–æ–≤–∫–µ.
–£ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –±—ã–ª–æ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –¥–æ—á–µ—Ä–∏: –û–ª—å–≥–∞ – 1874 –≥. —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ – 1875 –≥., –ù–∞–¥–µ–∂–¥–∞ – 1879 –≥. –∏ –ù–∏–Ω–∞ – 1883 –≥.
–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–Ω–∞ –≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞–º—É–∂ –∑–∞ —Å–æ—Å–µ–¥—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–∞, –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ —Ö—É—Ç–æ—Ä–∞ –ó–∞–π–º–∏—â–µ –°–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á–∞, –¥–≤–æ—é—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞ –ò–ª–ª–∞—Ä–∏–æ–Ω–∞ –ò–ª–ª–∞—Ä–∏–æ–Ω–æ–≤–∏—á–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ—á–µ–Ω—å —è—Ä–∫–æ –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—á–Ω–æ –æ–ø–∏—Å–∞–ª –ë–∞—Ç—É—Ä–∫–æ –§.–§. –≤ —Å–≤–æ–µ–π –∫–Ω–∏–≥–µ «–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ-—ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –æ—á–µ—Ä–∫ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è».
 –°–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫–∞—è (–í–µ—Ä–∏–≥–æ) –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–Ω–∞ –°–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫–∞—è (–í–µ—Ä–∏–≥–æ) –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–Ω–∞ |
–°–∞–º–∞—è –º–ª–∞–¥—à–∞—è –¥–æ—á—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –ù–∏–Ω–∞ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω—Å–∫–æ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –≤ –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ –∏ —Å 1912 –≥. —Å—Ç–∞–ª–∞ –≤–æ–ª—å–Ω–æ–ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫—É—é—â–µ–π –∞–∫—É—à–µ—Ä–∫–æ–π –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –í 1917 –≥. –ù–∏–Ω–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–Ω–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞ —Å–ª—É–∂–±–µ –ø—Ä–∏ –ö–æ–º–∏—Ç–µ—Ç–µ –ó–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–≥–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞ –í—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ—é–∑–∞ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤ –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ —Ñ–µ–ª—å–¥—à–µ—Ä–∞ 6 –°–∏–±–∏—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ë—É—Ä—è—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞.
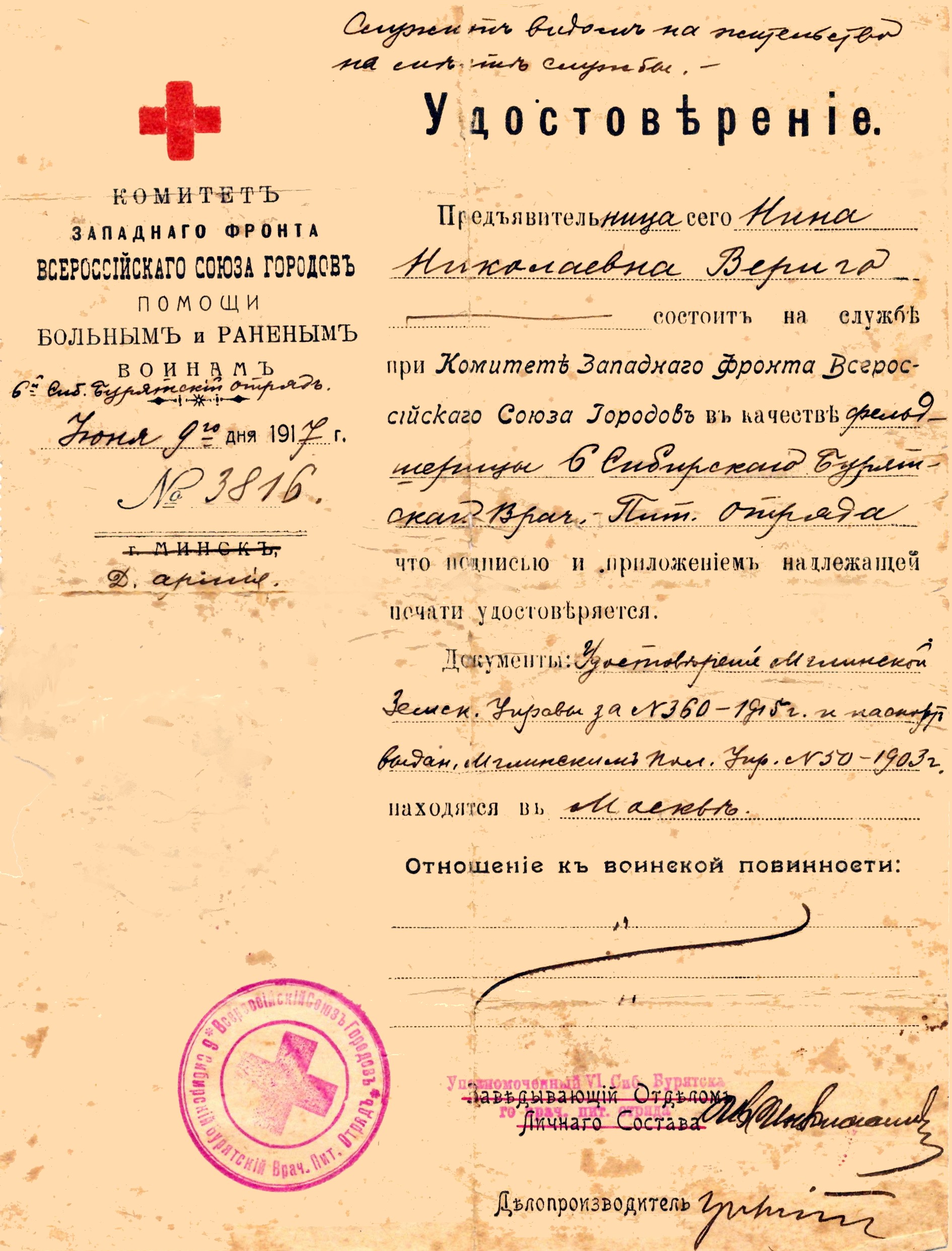 –£–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –∂–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ù–∏–Ω—ã –≤ 1917 –≥. –£–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –∂–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ù–∏–Ω—ã –≤ 1917 –≥. |
–î–µ—Ç–∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –Ω–∞ —Ö–æ–∑–¥–≤–æ—Ä–µ —É—Å–∞–¥—å–±—ã –í–µ—Ä–∏–≥–æ –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, —Ñ–æ—Ç–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ XX—Å—Ç.
–í 1862-1865 –≥–≥. –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –í–µ—Ä–∏–≥–æ –ª—É–≥–æ–≤—á–∞–Ω–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—É—é —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ –∏ –¥. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü —Å—Ç–∞–ª–∞ —Å–µ–ª–æ–º. –ò–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–æ—Ä–æ–º –∏ —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏—á–Ω—ã–º —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–º —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –ª—É–≥–æ–≤–µ—Ü–∫–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –±—ã–ª —Ç–∞–∫–∂–µ –±–æ–≥–∞—Ç—ã–π –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∂–∏—Ç–µ–ª—å –ü–æ–≤—Ç–∞—Ä—å –î–∞–≤–∏–¥ –î–∞–Ω–∏–ª–æ–≤–∏—á.
–¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –§–æ—Ç–æ –°–µ—Ä–≥–µ—è –ú–µ—Ä–∫—É–ª–æ–≤–∞, 2012 –≥.
–Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ–±–æ—Å–æ–±–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –∑–∞—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏, –≤ –ª–∏–ø–æ–≤–æ–π —Ä–æ—â–µ –±—ã–≤—à–µ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã –ö. –ú. –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –ø–æ —Å–æ—Å–µ–¥—Å—Ç–≤—É —Å–æ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã–º —Å–∞–¥–æ–º –µ–≥–æ –∏–º–µ–Ω–∏—è. –°—Ç–µ–Ω—ã —Ä—É–±–ª–µ–Ω—ã –±–µ–∑ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞ –∏ –æ–±—à–∏—Ç—ã —Ç–µ—Å–æ–º, —Ü–æ–∫–æ–ª—å –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω—ã–π. –°–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–π –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π —Ö—Ä–∞–º, –≤ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ-–∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —á–µ—Ä—Ç—ã —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω—ã —Å —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç–∞–º–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ç–∏–ª—è.
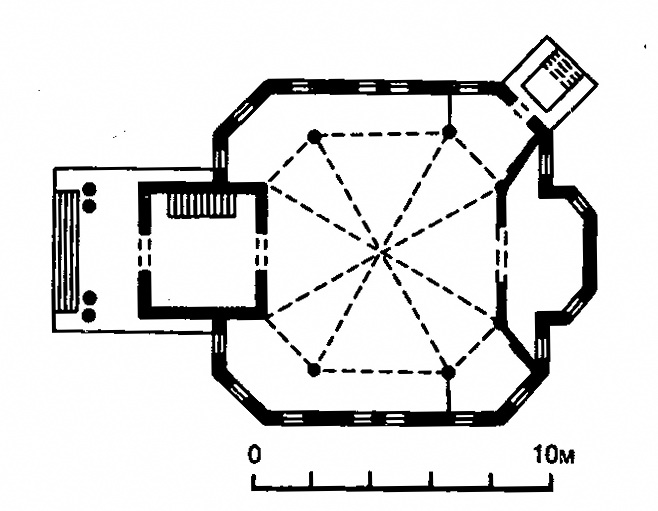 –ü–ª–∞–Ω —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ –ü–ª–∞–Ω —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ |
–ù–µ–æ–±—ã—á–Ω–∞ –∏ —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω–∞ –µ–≥–æ –æ–±—ä–µ–º–Ω–æ-–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è –≤ –≤–∏–¥–µ –¥–≤—É—Ö—ä—è—Ä—É—Å–Ω–æ–≥–æ –≤–æ—Å—å–º–∏–≥—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞ —Å —É–∑–∫–∏–º–∏ –¥–∏–∞–≥–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ –≥—Ä–∞–Ω—è–º–∏ –∏ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º –ø—è—Ç–∏–≥—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –≤—ã—Å—Ç—É–ø–æ–º –∞–ª—Ç–∞—Ä—è. –° –∑–∞–ø–∞–¥–∞ –∞–ª—Ç–∞—Ä—é –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç–Ω–∞—è –≤ –ø–ª–∞–Ω–µ –ø–∞–ø–µ—Ä—Ç—å, —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–Ω–∞—è –ø–æ—Ä—Ç–∏–∫–æ–º –Ω–∞–¥ –≤—Ö–æ–¥–æ–º –≤ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å. –°–ª–æ–∂–Ω–æ–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏–µ –∑–¥–∞–Ω–∏—è –æ–±—Ä–∞–∑—É—é—Ç —Ç—Ä–µ—É–≥–æ–ª—å–Ω—ã–µ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–Ω—ã (–Ω–∞–¥ —É–∑–∫–∏–º–∏ –≥—Ä–∞–Ω—è–º–∏) —Å –≤—Ä–µ–∑–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤ –∏—Ö –∫–æ–Ω—å–∫–∏ –≥–ª–∞–≤–∫–∞–º–∏ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏—Ö –∫—É–ø–æ–ª–æ–≤, –Ω–∏–∑–∫–∏–π –≤–æ—Å—å–º–µ—Ä–∏–∫ —Å –ø–æ–ª–æ–≥–∏–º —à–∞—Ç—Ä–æ–º –∏ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º –∫—É–ø–æ–ª–æ–º –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º.
–î–µ–∫–æ—Ä —Ñ–∞—Å–∞–¥–æ–≤ –≤–∫–ª—é—á–∞–µ—Ç –ø–æ—Ä—Ç–∏–∫ –ø–∞–ø–µ—Ä—Ç–∏ —Å –ø–∞—Ä–Ω—ã–º–∏ —Å—Ç–æ–π–∫–∞–º–∏-–∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞–º–∏ –ø–æ –∫—Ä–∞—è–º –∏ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–Ω–æ–º, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –¥–≤–∞ —Ç—Ä–µ—É–≥–æ–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–æ–∑—ã—Ä—å–∫–∞ –Ω–∞ —É–∑–∫–∏—Ö –≥—Ä–∞–Ω—è—Ö —Å—Ç–µ–Ω –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –∞–ª—Ç–∞—Ä—è: –Ω–∞–¥ —Å–µ–≤–µ—Ä–æ-–≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—ã–º –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ–º –±–æ–∫–æ–≤–æ–≥–æ –≤—Ö–æ–¥–∞ –∏ –Ω–∞–¥ –æ–∫–Ω–æ–º –ø–æ–¥ –≤–µ–Ω—á–∞—é—â–∏–º –∫–∞—Ä–Ω–∏–∑–æ–º. –ï—â–µ –æ–¥–∏–Ω —Å–∏–ª—å–Ω–æ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞—é—â–∏–π –∫–∞—Ä–Ω–∏–∑ –æ–±—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤–æ—Å—å–º–µ—Ä–∏–∫ –Ω–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏—è –ø–æ—Ä—Ç–∏–∫–∞ (—Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É–µ—Ç —É—Ä–æ–≤–Ω—é —Ö–æ—Ä –≤ –∏–Ω—Ç–µ—Ä—å–µ—Ä–µ), —Ä–∞—Å—á–ª–µ–Ω—è—è –æ–±—ä–µ–º –Ω–∞ –¥–≤–∞ —è—Ä—É—Å–∞.
–§–æ—Ä–º–∞ –æ–∫–æ–Ω –≤ —Å—Ç–∏–ª–µ –º–æ–¥–µ—Ä–Ω —Å–æ —Å—Ä–µ–∑–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–º–∏ —É–≥–ª–∞–º–∏ –∏ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–º–∏ –æ–±—Ä–∞–º–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏, –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –∫ –Ω–∞—á–∞–ª—É XX –≤. –ò–Ω—Ç–µ—Ä—å–µ—Ä –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Å–æ–±–æ–π –µ–¥–∏–Ω—ã–π –∑–∞–ª —Å –∏–¥—É—â–∏–º–∏ –≤–¥–æ–ª—å –±–æ–∫–æ–≤—ã—Ö —Å—Ç–µ–Ω —Ö–æ—Ä–∞–º–∏ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª–±–∞—Ö –∏ –∞–ª—Ç–∞—Ä–µ–º, –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –∏–∫–æ–Ω–æ—Å—Ç–∞—Å–æ–º. –û–±–æ—Å–æ–±–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ –ø–∞–ø–µ—Ä—Ç–∏ —Å –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ–π –Ω–∞ —Ö–æ—Ä—ã –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –∑–∞–ª –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º –ø—Ä–æ–µ–º–æ–º.
–ó–∞–ª –≤ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã—Ç –ø–æ–ª–æ–≥–∏–º —à–∞—Ç—Ä–æ–º; –≤ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —á–∞—Å—Ç—è—Ö —Ö—Ä–∞–º–∞ –ø–æ—Ç–æ–ª–∫–∏ –ø–ª–æ—Å–∫–∏–µ. –¢–µ—Å–æ–≤–∞—è –æ–±—à–∏–≤–∫–∞ —Å—Ç–µ–Ω –∏ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã—Ç–∏–π –æ–∫–ª–µ–µ–Ω–∞ —Ö–æ–ª—Å—Ç–æ–º –∏ –æ–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–∞ –º–∞—Å–ª—è–Ω–æ–π –∫—Ä–∞—Å–∫–æ–π. –ü—Ä–æ–µ–º—ã –∏–∑–Ω—É—Ç—Ä–∏ –æ–±—Ä–∞–º–ª–µ–Ω—ã –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–º–∏ –Ω–∞–ª–∏—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏. –ü–æ–∑–¥–Ω–µ–µ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–π –æ–≥—Ä–∞–¥—ã –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ-–ø—Ä–∏—Ö–æ–¥—Å–∫–∞—è –¥–≤—É—Ö–∫–ª–∞—Å—Å–Ω–∞—è —à–∫–æ–ª–∞.
–¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü – —ç—Ç–æ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã—Ö –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞, –∏–º–µ–µ—Ç —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—É—é –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—É, –Ω–µ–ø–æ—Ö–æ–∂—É—é –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, –≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ –ø–ª–∞—á–µ–≤–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –∏ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ –Ω—É–∂–¥–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–∏.
–Æ–Ω—ã–µ –≥–æ–¥—ã –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –∏ –∏—Å—Ç–æ–∫–∏ –µ–µ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–∑–∑—Ä–µ–Ω–∏—è
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∏–∑ —Ä–æ–¥–æ–≤–∏—Ç–æ–π –ø–æ–º–µ—â–∏—á—å–µ–π —Å–µ–º—å–∏. –ü–æ —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–π –ª–µ–≥–µ–Ω–¥–µ, –µ–µ –æ—Ç–µ—Ü –ø–æ—Å–ª—É–∂–∏–ª –ø—Ä–æ—Ç–æ—Ç–∏–ø–æ–º –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∞ –≤ «–ü–∏–∫–æ–≤–æ–π –¥–∞–º–µ» –ê. –°. –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞. –û—Ç–µ—Ü, —Å—ã–Ω –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∞—Ä–∏—Å—Ç–æ–∫—Ä–∞—Ç–∞, –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–Ω–æ–π –≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏ –ø–æ—Ä—É—á–∏–∫ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á –í–µ—Ä–∏–≥–æ –±—ã–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º —É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–≥—Ä–µ—Å—Å–∏–≤–Ω—ã—Ö –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–≤; –æ–Ω –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è –∏–¥–µ—è–º–∏ «—ç–Ω—Ü–∏–∫–ª–æ–ø–µ–¥–∏—Å—Ç–æ–≤» –∏ –Ý—É—Å—Å–æ –∏ –∏–º–µ–ª –±–æ–ª—å—à—É—é –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫—É, —Å–æ—Å—Ç–æ—è–≤—à—É—é –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∏–∑ –∫–Ω–∏–≥ —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏—Ö –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–≤. –°–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–µ–º —ç—Ç–∏—Ö —É–≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏–π —Å—Ç–∞–ª–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω—ã–µ —Å–µ–ª–∞ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø–æ–¥–≤–µ—Ä–≥–∞–ª–∏—Å—å —Ç–µ–ª–µ—Å–Ω—ã–º –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è–º, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã—Å–æ–∫–æ –æ—Ü–µ–Ω–µ–Ω–æ –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏, –≥–æ—Ä–¥–∏–≤—à–∏–º–∏—Å—è –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∫ —Å–µ–º—å–µ –í–µ—Ä–∏–≥–æ. –õ—É–≥–æ–≤—á–∞–Ω–µ –¥–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Å —Ç–µ–ø–ª–æ—Ç–æ–π –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—Ç –≤—Å–µ—Ö –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–∞ –í–µ—Ä–∏–≥–æ.

–ú–∞—Ç—å –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã – –û–ª—å–≥–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ –ì–æ—Ä–µ–º—ã–∫–∏–Ω–∞ – –æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞ –°–º–æ–ª—å–Ω—ã–π –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –¥–µ–≤–∏—Ü, –∏ –Ω–∞—Ä—è–¥—É —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –ø–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏—è–º–∏, –≤ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–µ –≤–ª–∞–¥–µ–ª–∞ —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–º –∏ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–º —è–∑—ã–∫–æ–º. –Ø–∑—ã–∫–æ–º –æ–±—â–µ–Ω–∏—è –≤ —Å–µ–º—å–µ –±—ã–ª —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–π, —à–∏—Ä–æ–∫–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª—Å—è –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–π –∏ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–π, –∞ –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ —Å –ø—Ä–∏—Å–ª—É–≥–æ–π.
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π –∏–∑ –ø—è—Ç–∏ –¥–µ—Ç–µ–π – –¥–≤–æ–µ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ (—Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π – –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π(1841) –∏ –º–ª–∞–¥—à–∏–π – –í–∞—Å–∏–ª–∏–π (1847)) –∏ –¥–≤–æ–µ —Å–µ—Å—Ç–µ—Ä. –Ý–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏, –±—ã–≤—à–∏–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏, —Å–º–æ–≥–ª–∏ –¥–∞—Ç—å –≤—Å–µ–º –¥–µ—Ç—è–º —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ.
–û —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö, –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫:
«–ö–æ–≥–¥–∞ —è –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ–±–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—é—Å—å –Ω–∞–∑–∞–¥, –∫ —Å–≤–æ–µ–π –ø—Ä–æ—à–ª–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ —è –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ –≤–∏–∂—É —Å–µ–±—è –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π –ø—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–Ω–µ–π –¥–µ–≤—á–æ–Ω–∫–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤—Å–µ –≤—Ä–µ–º—è —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª–∞ –∏ –±–æ–ª–µ–ª–∞ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ–º –∑–∞ –∫–æ–≥–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å: —Ç–æ –∑–∞ –∫—É—á–µ—Ä–∞, —Ç–æ –∑–∞ –≥–æ—Ä–Ω–∏—á–Ω—É—é, —Ç–æ –∑–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–Ω–∏–∫–∞, —Ç–æ –∑–∞ —É–≥–Ω–µ—Ç–∞–µ–º—ã—Ö –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω (–≤–µ–¥—å —Ç–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–æ –µ—â–µ –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–æ). –í–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏—è –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Ä—è —Ç–∞–∫ –∫—Ä–µ–ø–∫–æ –∑–∞–ø–∞–ª–∏ –≤ –º–æ—é –¥–µ—Ç—Å–∫—É—é –¥—É—à—É, —á—Ç–æ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ –Ω–µ –ø–æ–∫–∏–¥–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è —É–∂–µ –≤–æ –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å».
–û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —è—Ä–∫–∏–µ, –∫–æ–ª–æ—Ä–∏—Ç–Ω—ã–µ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è—é—â–∏–µ –ø–æ–Ω—è—Ç—å –∏—Å—Ç–æ–∫–∏ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–∑–∑—Ä–µ–Ω–∏—è –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, —Å–æ–æ–±—â–∞–µ—Ç –Ω–∞–º –≤–∏–¥–Ω—ã–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤, –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –µ–µ –±–ª–∏–∑–∫–∏—Ö –¥—Ä—É–∑–µ–π –í.–ú. –ó–µ–Ω–∑–∏–Ω–æ–≤ (1880-1959) –≤ —Å–≤–æ–µ–π –∫–Ω–∏–≥–µ «–î–µ—Ç—Å–∫–∏–µ –≥–æ–¥—ã –ï.–ö.–ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π. –ü–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–º –±–∞–±—É—à–∫–∏», –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–π —Å–æ —Å–ª–æ–≤ —Å–∞–º–æ–π –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã.
«–ò–∑ –≤—Å–µ—Ö –ø—è—Ç–µ—Ä—ã—Ö —è –±—ã–ª–∞ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–∞—è – –≤—Å–µ–º –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–∞, –≤—Å–µ –º–Ω–µ –Ω–µ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å, –≤—Å–µ –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–æ–≤–∞–ª–∞. –î–æ 5 –ª–µ—Ç –±—ã–ª–∞ –Ω–µ—Ä–≤–Ω–æ–π, –Ω–µ–≤–æ–∑–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–Ω–æ–π, –±–µ—à–µ–Ω–æ–π, –æ—Ç–∫–∞–∑–æ–≤ –Ω–µ —Ç–µ—Ä–ø–µ–ª–∞. –ü–æ –º–∞–ª–µ–π—à–µ–º—É –ø–æ–≤–æ–¥—É –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –∫—Ä–∏—á–∞—Ç—å –∏—Å—Ç–æ—à–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –æ—Ç–±–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Ä—É–∫–∞–º–∏, –Ω–æ–≥–∞–º–∏ –æ—Ç –≤—Å–µ—Ö, –∫—Ç–æ –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª. –ê –µ—Å–ª–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å—Ç–∞–∏–≤–∞—Ç—å, –ø–∞–¥–∞–ª–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª, –ø–ª–∞–∫–∞–ª–∞ –∏ –±–∏–ª–∞—Å—å –¥–æ –∏—Å—Ç–æ—â–µ–Ω–∏—è —Å–∏–ª.
–û—Ç–µ—Ü —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è, —Å–Ω–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª—Å—è –∫ –º–æ–∏–º –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∫–∞–º, —É–∑–Ω–∞–≤–∞—è –≤ –Ω–∏—Ö —Å–≤–æ–π —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω—Ä–∞–≤. –ê –º–∞—Ç—å –∫–∞—á–∞–ª–∞ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π: «–ß—Ç–æ –∏–∑ –Ω–µ–µ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è? –ò –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –æ–Ω–∞ –≤–∑—è–ª–∞—Å—å —Ç–∞–∫–∞—è –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–∞—è? –í—Åe –¥–µ—Ç–∏ –∫–∞–∫ –¥–µ—Ç–∏, –∞ –ö–∞—Ç—è —Ç–æ—á–Ω–æ –≤–∏—Ö—Ä—å, –∞ –Ω–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫».
–¢–∞–∫ «–≤–∏—Ö—Ä–µ–º» –º–µ–Ω—è –≤ —Å–µ–º—å–µ –∏ –∑–≤–∞–ª–∏. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä–æ—Å—Ç–∏ –ª–µ—Ç —Å–∞–º–∞ —Å–æ–∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ —Ä–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å —è –≤–∏—Ö—Ä–µ–º –∏ –≤–∏—Ö—Ä–µ–º –ø—Ä–æ–Ω–µ—Å–ª–∞—Å—å —á–µ—Ä–µ–∑ –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å, –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—è—Å—å, –Ω–µ —Å–ø–∞–¥–∞—è, —Ä–∞—Å—à–∏—Ä—è—è –∫—Ä–∞—è –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–∏, –ø–æ –º–µ—Ä–µ —Ç–æ–≥–æ –∫–∞–∫ –∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª–∞—Å—å —Å –º–∏—Ä–æ–º –∏ –∑–∞–º–µ–¥–ª—è—è —Ö–æ–¥ –ø–æ –º–µ—Ä–µ –æ—Å–ª–∞–±–ª–µ–Ω–∏—è —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–∏–ª...
–í—Å–µ–º —è –±—ã–ª–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫–∞ —Å —Å–∞–º—ã—Ö –º–∞–ª—ã—Ö –ª–µ—Ç: —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—é –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Å–µ–º—å–∏, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –≤—Å–µ—Ö... –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å –ø—Ä–∏—Å–ª—É–≥–æ–π –Ω–µ –±—ã–ª–æ —É –º–µ–Ω—è –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç–æ–ª–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–π, —è –∏–Ω—Å—Ç–∏–Ω–∫—Ç–æ–º —Å–æ–∑–Ω–∞–≤–∞–ª–∞ –µ–µ –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∂–∞–ª–µ–ª–∞ –µ–µ. –ü–æ—Å–µ—â–µ–Ω–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏, –±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç—å –∫ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –º–Ω–µ –Ω–æ–≤—ã–π –º–∏—Ä, –ø–æ–ª–Ω—ã–π —Ç–∞–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–∏. –õ—É—á—à–∏–º–∏ –º–∏–Ω—É—Ç–∞–º–∏ –±—ã–ª–∏ –≤–∏–∑–∏—Ç—ã —Å –Ω—è–Ω–µ–π –∫ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∫–µ –ú–∞—Ä—å–µ, –∏–º–µ–≤—à–µ–π –æ–≥–æ—Ä–æ–¥ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ö–∞—Ç–æ–π… –í –º–∏–Ω—É—Ç—ã –≥–ª—É–±–æ–∫–∏—Ö –æ–≥–æ—Ä—á–µ–Ω–∏–π —è –≥—Ä–æ–∑–∏–ª–∞, —á—Ç–æ —É–π–¥—É –∂–∏—Ç—å –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é –∏ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Å—å –¥–æ–º–æ–π».
–ü–æ–ª–Ω–æ–µ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ —Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞ –∏ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–µ —Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏–µ –∫ –Ω–æ–≤—ã–º –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏—è–º —Ç–∞–∫–∂–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∏ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—É –æ—Ç –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –∏ —Å–µ—Å—Ç–µ—Ä.
«–í—Å–µ–≥–¥–∞ –∫—É–¥–∞-—Ç–æ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏–ª–∞—Å—å –∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –±–æ—è–ª–∞—Å—å. –û—Ç —Å–∞–º—ã—Ö –º–∞–ª—ã—Ö –ª–µ—Ç –º–Ω–µ –±—ã–ª–æ —Ç–µ—Å–Ω–æ –≤ –¥–æ–º–µ, –≤ —Å–µ–º—å–µ, —Ö–æ—Ç—è –ª—é–±–∏–ª–∞ –æ—Ç—Ü–∞, –º–∞—Ç—å, —Å–µ—Å—Ç–µ—Ä –∏ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤, –ø—Ä–∏—Å–ª—É–≥—É –∏ –≤—Å–µ—Ö, –∫–æ–≥–æ –≤–∏–¥–µ–ª–∞ –≤–±–ª–∏–∑–∏ –∏–ª–∏ –∏–∑–¥–∞–ª–∏, –≤—Å–µ–º –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å, –≤—Å–µ–º –≥–æ—Ç–æ–≤–∞ –±—ã–ª–∞ –≤—Å–µ –æ—Ç–¥–∞—Ç—å, –≤—Å–µ—Ö —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∞ —Å–≤–æ–∏–º–∏. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä, —Å–≤–æ–±–æ–¥–∞, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ–∏—Å–∫–∏ —á–µ–≥–æ-—Ç–æ –∏–∑ —Ä—è–¥–∞ –≤–æ–Ω, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –∂–∏–≤—ã—Ö —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤, –Ω—É–∂–¥–∞—é—â–∏—Ö—Å—è –≤ —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–∏–∏ –∏–ª–∏ –≤ –ø–æ–º–æ—â–∏ – –±—ã–ª–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –º–æ–∏–º–∏ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏».
–ü–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –≤ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏–∑–æ–≤–∞–ª–æ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø–æ–ª–Ω–æ–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ–¥—É—à–∏–µ –∫ –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–º—É –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤—É, –∏–≥—Ä—É—à–∫–∞–º, –Ω–∞—Ä—è–¥–∞–º –∏ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–º –∏–≥—Ä–∞–º: «–ò –ø—Ä–∏ –≤—Å—è–∫–æ–º —É–¥–æ–±–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ —è –±—Ä–æ—Å–∞–ª–∞ –Ω—è–Ω—å–∫—É, –≤—Å–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ, –∏–≥—Ä—É—à–∫–∏ –∏ –∫—É–∫–ª—ã - –∏ —Å–ø–µ—à–∏–ª–∞ —Ç—É–¥–∞, –≥–¥–µ –±—ã–ª–∞ –æ–¥–Ω–∞ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –∑–∞—Ç–µ—è–º–∏»...
–õ—é–±–∞—è –Ω–æ–≤–∞—è –≤–µ—â—å —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –∫–∞–∫ –ø–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ–¥–∞—Ä–æ–∫ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–º –¥–µ—Ç—è–º. –í –æ—Ç–≤–µ—Ç –Ω–∞ —É–ø—Ä–µ–∫–∏ —Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª–∞, —á—Ç–æ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤—É–µ—Ç—Å—è –µ–≤–∞–Ω–≥–µ–ª—å—Å–∫–∏–º–∏ –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥—è–º–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –ø—Ä—è–º–æ —É–∫–∞–∑–∞–Ω–æ: –∫—Ç–æ –∏–º–µ–µ—Ç –¥–≤–µ —Ä—É–±–∞—à–∫–∏, –æ–¥–Ω—É –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –æ—Ç–¥–∞—Ç—å –±–µ–¥–Ω—ã–º. «–ü–æ—Å–µ—â–µ–Ω–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏, –±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç—å –∫ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –º–Ω–µ –Ω–æ–≤—ã–π –º–∏—Ä, –ø–æ–ª–Ω—ã–π —Ç–∞–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–∏»; —É–∂–µ –≤ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ –≤ –Ω–µ–π —Å–æ–∑—Ä–µ–ª–∞ —Ç–≤–µ—Ä–¥–∞—è —Ä–µ—à–∏–º–æ—Å—Ç—å «–∂–∏—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–ª—è –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞».
–ú–∞—Ç—å –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã – –û–ª—å–≥–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ – –±—ã–ª–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–æ–π –æ—á–µ–Ω—å —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–æ–π –∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∞—Å—å –¥–∞—Ç—å –¥–µ—Ç—è–º —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–µ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ.
«–ú–∞—Ç—å –º–æ—è –±—ã–ª–∞ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–æ–π –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–æ–π, – –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è. – –ß–∏—Ç–∞–ª–∞ –Ω–∞–º –ï–≤–∞–Ω–≥–µ–ª–∏–µ –∏ –∂–∏—Ç–∏—è. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ. –ù–∞ –∫–∞–∫–∏–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º—É–∫–∏ –ª—é–¥–∏ –Ω–µ —à–ª–∏, –ª–∏—à—å –±—ã –æ—Ç—Å—Ç–æ—è—Ç—å —Å–≤–æ—é –≤–µ—Ä—É, –æ—Ç–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –∑–ª–∞ –∏ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –¥—É—Ä–Ω–æ–≥–æ».
–ù–∞ —é–Ω—É—é –ö–∞—Ç—é –æ—Å–æ–±–æ–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª–æ –∂–∏—Ç–∏–µ –í–µ–ª–∏–∫–æ–º—É—á–µ–Ω–∏—Ü—ã –í–∞—Ä–≤–∞—Ä—ã: —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ —Ä–∞–¥–∏ –ª—é–±–≤–∏ –ë–æ–∂–∏–µ–π –≤—Å–µ –ø—Ä–µ–∑—Ä–µ–ª–∞ – —Ä–æ–¥, –æ—Ç–µ—á–µ—Å–∫—É—é –ª—é–±–æ–≤—å, –æ—Ç–µ—á–µ—Å–∫–æ–µ –ª–∂–µ–≤–µ—Ä–∏–µ, –±–æ–≥–∞—Ç—Å—Ç–≤–æ, —é–Ω–æ—Å—Ç—å, –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—É, –≤—Å–µ –∑–µ–º–Ω—ã–µ –Ω–∞—Å–ª–∞–∂–¥–µ–Ω–∏—è.
 –û—Ç–µ—Ü –í–∞—Ä–≤–∞—Ä—ã –î–∏–æ—Å–∫–æ—Ä –æ—Ç—Å–µ–∫–∞–µ—Ç –µ–π –≥–æ–ª–æ–≤—É –û—Ç–µ—Ü –í–∞—Ä–≤–∞—Ä—ã –î–∏–æ—Å–∫–æ—Ä –æ—Ç—Å–µ–∫–∞–µ—Ç –µ–π –≥–æ–ª–æ–≤—É |
«–û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–∞ –º–µ–Ω—è –∂–∏–∑–Ω—å –í–∞—Ä–≤–∞—Ä—ã-–º—É—á–µ–Ω–∏—Ü—ã, —Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏ —Ç–≤–µ—Ä–¥–æ —à–µ–¥—à–µ–π –Ω–∞ –ø—ã—Ç–∫—É –∏ –∫–∞–∑–Ω—å –∑–∞ —Å–≤–æ–∏ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–∏–µ –≤–µ—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –º—É–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–≤—à–µ–π –≤—Å–µ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞, —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏ –æ—Ç–∫–∏–Ω—É–≤—à–µ–π –≤–æ–ª–æ—Å—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–æ–±—Ä–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∞ —Å–≤–æ—é –≥–æ–ª–æ–≤—É –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω—å –¥–ª—è –æ—Ç—Å–µ—á–µ–Ω–∏—è..., – –æ—Ç–º–µ—á–∞–µ—Ç –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è. – –ï–µ –∂–∏—Ç–∏–µ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–ª–æ –¥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –¥–Ω–∞ –º–æ–µ–π —é–Ω–æ–π –¥—É—à–∏, –∫–∞–∫ —Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ –≤–æ–Ω–∑–∏–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–µ–µ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–µ–π –Ω–∞ –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å. –£ –Ω–∞—Å –≤ —Å–µ–º—å–µ –±—ã–ª –æ–±—ã—á–∞–π —á–∏—Ç–∞—Ç—å —Ç—Ä–∏ –∞–∫–∞—Ñ–∏—Å—Ç–∞ – –ò–∏—Å—É—Å—É —Å–ª–∞–¥—á–∞–π—à–µ–º—É, –ù–∏–∫–æ–ª–∞—é-—É–≥–æ–¥–Ω–∏–∫—É –∏ –í–∞—Ä–≤–∞—Ä–µ-–≤–µ–ª–∏–∫–æ–º—É—á–µ–Ω–∏—Ü–µ. –Ø –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ª—é–±–∏–ª–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π. –ú–Ω–æ–≥–æ–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –º–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å—Ç–∏ –≤ –º–æ–µ–π –¥–æ–ª–≥–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏, –Ω–æ –æ–±—Ä–∞–∑ –í–∞—Ä–≤–∞—Ä—ã, —Å–∞–º–æ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ –Ω–µ–π —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è–ª–æ –º–æ—é –≤–æ–ª—é, –≤–Ω–æ—Å–∏–ª–æ —É—Å–ø–æ–∫–æ–µ–Ω–∏–µ –≤ –º–æ—é –¥—É—à—É. –ï–µ —Å—É–¥—å–±–∞, –µ–µ –º—É—á–µ–Ω–∏—è –±—ã–ª–∏ –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–æ–º –Ω–∞ –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å, —É–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –±—ã–ª–∞ –≥–æ—Ç–æ–≤–∞, –∫–∞–∫ –í–∞—Ä–≤–∞—Ä–∞-–≤–µ–ª–∏–∫–æ–º—É—á–µ–Ω–∏—Ü–∞, –≤—Å–µ –ø—Ä–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ—Ç—å —Ä–∞–¥–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–π, –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ –∑–∞ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å, –∑–∞ —Ä–∞–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ –≤—Å–µ—Ö –ª—é–¥–µ–π».
–í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ–±—Ä–∞–∑ –í–µ–ª–∏–∫–æ–º—É—á–µ–Ω–∏—Ü—ã –í–∞—Ä–≤–∞—Ä—ã –æ–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–∞–∫–æ–µ –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ –Ω–∞ —é–Ω—É—é –ö–∞—Ç—é –µ—â–µ –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ, –±—É–¥—É—á–∏ –≤–æ –ú–≥–ª–∏–Ω–µ, –æ–Ω–∞ –≤–±–ª–∏–∑–∏ –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±–æ—Ä–∞ –∑—Ä–∏–º–æ –≤–∏–¥–µ–ª–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—É—é —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å, –≤–æ–∑–¥–≤–∏–≥–Ω—É—Ç—É—é –≤ —á–µ—Å—Ç—å –ø–æ—à–µ–¥—à–µ–π –∑–∞ –≤–µ—Ä—É –Ω–∞ –∫–∞–∑–Ω—å –í–∞—Ä–≤–∞—Ä—ã. –¢–∞–∫–æ–π –∏–¥–µ–∞–ª –∏ –∂–µ—Ä—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—É—Ç—å —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –±–æ—Ä—å–±—ã –∑–∞ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å, –∏–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π —é–Ω–æ–π –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–æ–π –µ—â–µ –≤ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ, –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–µ—Ç –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ–± –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –æ—Ç–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ –µ–µ —Å —Ä–∞–Ω–Ω–µ—Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–∏–º–∏ —Å–≤—è—Ç—ã–º–∏.
–í 1910 –≥–æ–¥—É, –ø–æ—á—Ç–∏ 60 –ª–µ—Ç —Å–ø—É—Å—Ç—è, –∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–π –≥–∞–∑–µ—Ç—ã, —É–≤–∏–¥–µ–≤ –ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫—É—é –Ω–∞ —Å—É–¥–µ–±–Ω–æ–º –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª: «–≠—Ç–∞ –ø—Ä–µ—Å—Ç–∞—Ä–µ–ª–∞—è, —Å–µ–¥–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞, –æ–¥–µ—Ç–∞—è –≤ —á–µ—Ä–Ω–æ–µ –ø–æ–Ω–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø–ª–∞—Ç—å–µ, — –±–∞–±—É—à–∫–∞, –∫–∞–∫ –ª—é–±–æ–≤–Ω–æ –∑–æ–≤–µ—Ç –µ–µ –ø–∞—Ä—Ç–∏—è –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è, — —à–ª–∞ —Å –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ–º –∏ —Å–∏—è—é—â–∏–º –ª–∏—Ü–æ–º, –∫–∞–∫ –º—É—á–µ–Ω–∏—Ü–∞, –≤–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–ª—è–µ–º–∞—è –≤–µ–ª–∏—á–∏–µ–º –¥–µ–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –æ–Ω–∞ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∞ –∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏–µ –≤ –≤—ã—Å—à—É—é —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å».
–í 14-–ª–µ—Ç–Ω–µ–º –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ —É —é–Ω–æ–π –ö–∞—Ç–∏ —É–∂–µ —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –ø–ª–∞–Ω—ã –Ω–∞ –±—É–¥—É—â–µ–µ: —Ä–∞–∑–±–æ–≥–∞—Ç–µ—Ç—å, —Å–∫—É–ø–∏—Ç—å –±–æ–ª—å—à–æ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—å —Å –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –∏ —É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –≤ –Ω–∏—Ö —É—Ç–æ–ø–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫—É —Å –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤—ã–º–∏ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–∞–º–∏. «–ù–∞ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∫–∞—Ö —à–∏—Ä–æ–∫–∏—Ö, —á–∏—Å—Ç—ã—Ö —É–ª–∏—Ü —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ã –∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä—ã, –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –ª–µ–∫—Ç–æ—Ä—ã –ø–æ—É—á–∞—é—Ç –Ω–∞—Ä–æ–¥, –∞ —è, —É–∂–µ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª–∞—è, –≥–æ–≤–æ—Ä—é –æ –≤—Ä–µ–¥–µ –ø—å—è–Ω—Å—Ç–≤–∞, –≥—Ä—É–±–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è —Å –∂–µ–Ω–∞–º–∏ –∏ –¥–µ—Ç—å–º–∏ –∏ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞—é –∫ –∂–∏–∑–Ω–∏ —Ä–∞–∑—É–º–Ω–æ–π –∏ —Ç—Ä—É–¥–æ–≤–æ–π».
–£–≤–ª–µ–∫–∞—è—Å—å –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å—å—é, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –≤ —é–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥–∞–∂–µ –ø–∏—Å–∞–ª–∞ –∏–∫–æ–Ω—ã –¥–ª—è –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –≤–æ–æ–±—â–µ –≤ —Å–µ–º—å–µ –í–µ—Ä–∏–≥–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –∏ –æ–±—Ä—è–¥–æ–≤–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–∏ –±—ã–ª–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–º, —á—Ç–æ —Ü–µ–ª–∏–∫–æ–º –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–æ—Å—å –∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –≤—Å–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏, —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤ –Ω–µ–ø–æ–∫–æ–ª–µ–±–∏–º—É—é –≤–µ—Ä—É –≤ –ë–æ–≥–∞, –Ω–æ «–Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –≤ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–º –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–ª–æ–≤–∞».
«–ú–æ–µ –≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏–µ –∫–æ –≤—Å–µ–º—É —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—é—â–µ–º—É —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤—É —Ä–æ—Å–ª–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ—é, –∞ —É—á–µ–Ω–∏–µ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞ —Å–ª—É–∂–∏–ª–æ –º–Ω–µ –æ–ø–æ—Ä–æ–π –∏ —É—Ç–µ—à–µ–Ω–∏–µ–º... –- –ø–∏—Å–∞–ª–∞ –æ —Å–µ–±–µ –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è. – –ü–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Å–ª—ã—à–∞–Ω–Ω–æ–µ —Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ –ª—é–¥–∏ –Ω–µ –≤ —Å–∏–ª–∞—Ö –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ —Å—Ç–æ–ø–∞–º –•—Ä–∏—Å—Ç–∞, –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Ç—Ä–æ–≥–∞–ª–æ. –û–Ω —É—á–∏–ª. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª –Ω–∞—Å —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–º–∏ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å –ï–≥–æ —É—á–µ–Ω–∏—é. –¢–∞–∫–∏–º —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ–º –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª–Ω–æ –º–æ–µ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–∑–∑—Ä–µ–Ω–∏–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –µ—â–µ –Ω–µ —á–∏—Ç–∞–ª–∞ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∫–Ω–∏–∂–∫–∏. <...> –£—á–µ–Ω–∏–µ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–µ —Å—Ç–∞–≤–ª—é –Ω–µ—Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–Ω–æ –≤—ã—à–µ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –∏–º–µ–µ—Ç –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–µ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ –ª–∏—à—å —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–æ –æ–∑–∞—Ä–µ–Ω–æ —Å–≤–µ—Ç–æ–º —Å–ª–æ–≤ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞...»
–ù–æ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–æ—Å—Ç—å –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ–ª–∞ –≤–µ—Å—å–º–∞ —Å–ø–µ—Ü–∏—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ñ–æ—Ä–º—ã, –≤—ã—Ä–∞–∂–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –≤ —Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏–∏ –ª—é–±—ã–º–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –∏ —Å–ø–æ—Å–æ–±–∞–º–∏ –±–æ—Ä–æ—Ç—å—Å—è –∑–∞ «—Å–≤–µ—Ç–ª–æ–µ –±—É–¥—É—â–µ–µ» –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞. –°—á–∏—Ç–∞—è —Å–µ–±—è —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω–∫–æ–π, –æ–Ω–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∞ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –ø—Ä–µ—Å—Ç—É–ø–Ω–æ–≥–æ –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏–∏, –Ω–æ –∏ –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞–ª–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä, —Å—á–∏—Ç–∞—è –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–∞ –ø—Ä–∏–µ–º–ª–µ–º—ã–º —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –¥–æ—Å—Ç–∏–∂–µ–Ω–∏—è –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ «—Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ –ø—Ä–∞–≤–¥—ã».
–ü–µ—Ä–≤—ã–µ —à–∞–≥–∏ –Ω–∞ –Ω–∏–≤–µ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Å —Å–∞–º–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–Ω–µ–≥–æ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ –∏—Å–ø—ã—Ç—ã–≤–∞–ª–∞ –æ—Å—Ç—Ä—É—é –∂–∞–ª–æ—Å—Ç—å –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫ –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–º –ª—é–¥—è–º - –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∞ —Ä–µ–∑–∫–∏–º –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞—Å—Ç–æ–º –º–µ–∂–¥—É –∂–∏–∑–Ω—å—é –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–µ–º—å–∏. –ü–æ–¥–Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–ª–æ –µ–µ, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å–∞–º–æ–π –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–µ –ø—Ä–µ—Ç–∏–ª–æ –ª—é–±–æ–µ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–µ–Ω–∏–µ —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã –¥–∞–∂–µ –≤ —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–º —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ.
–í —Å—Ç–∞—Ç—å–µ –ê.–§. –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ «–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –∏ –µ–µ –¥—Ä—É–∑—å—è –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏» –æ—Å–æ–±–æ –æ—Ç–º–µ—á–∞–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ «—Å–∞–º—ã–º –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º –∏ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–º –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ–º –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂–∏ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –±—ã–ª–æ –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–æ. –£ –Ω–∏—Ö –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –æ–¥–Ω–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –ª—é–¥–∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π –ø—Ä–æ–¥–∞–≤–∞–ª–∏ —Å–µ–º—å—è–º–∏ –∏ –≤ —Ä–æ–∑–Ω–∏—Ü—É, –ø–æ —Å–≤–æ–µ–º—É —É—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–Ω–∏—é –ø–æ–¥–≤–µ—Ä–≥–∞–ª–∏ —Ç–µ–ª–µ—Å–Ω—ã–º –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è–º —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–æ–¥–¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö, –Ω–∞—Å–∏–ª–æ–≤–∞–ª–∏ –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö –∂–µ–Ω—â–∏–Ω –∏ –¥–µ–≤—É—à–µ–∫, –∞ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—Ç—Ä–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –ø—Å–∞–º–∏ –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –º–∞–ª—å—á–∏–∫–æ–≤».
–í –≥–æ–¥ –æ—Ç–º–µ–Ω—ã –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–µ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –±—ã–ª–æ —Å–µ–º–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ª–µ—Ç. –í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤ —Å—Ä–µ–¥–µ –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–∏–≥–µ–Ω—Ç–Ω–æ–π –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂–∏ —Å–∞–º –≤–æ–∑–¥—É—Ö –±—ã–ª –Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ –∏–¥–µ—è–º–∏ –∏ —Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏–µ–º —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—É –∏ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ —Å—Ä–µ–¥–∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω. –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–≤—à–∞—è –≥–æ—Ä—è—á–µ–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ —Å–ø–æ—Ä–∞—Ö –ø–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—É –æ–± –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã, –≤–æ–∑–ª–∞–≥–∞–µ–º—ã–µ –Ω–∞ —Ä–µ—Ñ–æ—Ä–º—É, –Ω–µ –æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞–ª–∏—Å—å.
–û–± —ç—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–µ —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Å–æ–æ–±—â–∞–µ—Ç: «–ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å–µ–º–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ª–µ—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ 1861 –≥–æ–¥—É –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–∏ –æ—Ç –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–ª–∞ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤, –Ω–æ —Ç–∞–∫ –ø–ª–æ—Ö–æ –Ω–∞–¥–µ–ª–∏–ª–∏ –∑–µ–º–ª–µ–π, —á—Ç–æ —Ä–∞–±–æ—á–µ–º—É –Ω–∞—Ä–æ–¥—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Å–Ω–æ–≤–∞ –∏–¥—Ç–∏ –≤ –∫–∞–±–∞–ª—É –∫ –±–æ–≥–∞—á–∞–º. –í–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏—è –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª–∏ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ —ç–∫–∑–µ–∫—É—Ü–∏–∏; —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏—è –∏—Ö –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –º–æ–∏—Ö –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –∏ —É—Å–∏–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –º–æ–µ —Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏–µ —Å–ª—É–∂–∏—Ç—å –Ω–∞—Ä–æ–¥—É –º–æ–µ–º—É, —á–µ–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–≥—É, —Ä–∞–¥–∏ –æ–±–ª–µ–≥—á–µ–Ω–∏—è –µ–≥–æ –≥–æ—Ä—å–∫–æ–π –¥–æ–ª–∏. –ù–∏ –æ –∫–∞–∫–∏—Ö —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∫—Ä—É–∂–∫–∞—Ö –∏ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è—Ö –≤ –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å–ª—ã—à–Ω–æ, –Ω–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –∑–µ–º—Å–∫–∞—è, –∏ —è –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–ª–∞ –∫ –Ω–µ–π —Å–≤–æ–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–Ω–∏—è».
–û–Ω–∞ –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –º–Ω–æ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è —É–¥–µ–ª—è—è –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º. «–ü–µ—Ä–∏–æ–¥ –∫—Ä–æ—Ç–æ—Å—Ç–∏ –∏ –±–µ—Å–ø—Ä–µ–∫–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Å–ª—É—à–∞–Ω–∏—è –ø–µ—Ä–µ—à–µ–ª –≤ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ —Å–≤–æ–µ–π –∏–Ω–¥–∏–≤–∏–¥—É–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≤ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏–∏ –ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏ —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—è». –ü—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—è —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ —Å–ø–æ—Ä–∞—Ö –Ω–∞ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ç–µ–º—ã, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏—Ç—å —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º –∏ –æ—Ç—Å—Ç–∞–∏–≤–∞—Ç—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Å–º–µ–ª—ã–µ –∏ –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≤–∑–≥–ª—è–¥—ã –Ω–∞ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º. –°–ø–æ–∫–æ–π–Ω–∞—è, —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ —É–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏—Ç –µ–π —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏—è, –∏ –≤ 1863 –≥–æ–¥—É, –≤ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ –¥–µ–≤—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ª–µ—Ç, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–π —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π –û–ª—å–≥–æ–π –∏ –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é –µ–¥–µ—Ç –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥ —É—á–∏—Ç—å—Å—è –º—É–∑—ã–∫–µ –∏ –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–∏.
–ù–æ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ, —Ä–µ—à–∏–≤ –Ω–∞—á–∞—Ç—å –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—É—é –∂–∏–∑–Ω—å, —Å–µ—Å—Ç—Ä—ã –±—Ä–æ—Å–∞—é—Ç —É—á–µ–±—É; –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç—ã –º–∞—Ç–µ—Ä–∏. –û–Ω–∏ –æ–±—Ä–∞—â–∞—é—Ç—Å—è –≤ –∫–æ–Ω—Ç–æ—Ä—É, –∑–∞–Ω–∏–º–∞—é—â—É—é—Å—è –Ω–∞–±–æ—Ä–æ–º –≥—É–≤–µ—Ä–Ω–∞–Ω—Ç–æ–∫. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –¥–µ–≤—É—à–∫–∏ –ø–æ–ª—É—á–∞—é—Ç –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –æ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ: —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –≤ —Å–µ–º—å—é –∫–Ω—è–∑—è –õ–æ–±–∞–Ω–æ–≤–∞ –≤ –ù–∏–∂–Ω–µ–º –ù–æ–≤–≥–æ—Ä–æ–¥–µ, –∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ —Å —Å–µ–º—å–µ–π –ø—Ä–µ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–∞ –ö–ª–æ–∫–æ—á–µ–≤–∞ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤ –¢–≤–µ—Ä—Å–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é. –í–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ–º –¥–µ—Ç–µ–π –æ–±–µ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ–¥–æ–ª–≥–æ, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫, –ø–æ —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, —Å–µ–º—å–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–Ω–∏ –ø–æ–ø–∞–ª–∏, «–Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–µ–µ –≤–Ω–µ—à–Ω–µ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ, —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª–∏ —É—Ä–æ–¥–ª–∏–≤—ã–º–∏ –Ω—Ä–∞–≤–∞–º–∏ –∏ –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –¥–æ–º–∞—à–Ω—é—é –∂–∏–∑–Ω—å –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–π».
–ñ–µ–ª–∞—è –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å –¥–æ—á–µ—Ä–µ–π –¥–æ–º–æ–π –∏ –≤ —Ç–æ –∂–µ –≤—Ä–µ–º—è –¥–∞—Ç—å –∏–º –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–∏—Ç—å –º–µ—á—Ç—ã –æ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏, —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—é—Ç –≤ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –ø–∞–Ω—Å–∏–æ–Ω –¥–ª—è –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –¥–µ–≤–∏—Ü – –¥–æ—á–µ—Ä–µ–π –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –≤ –ø–∞–Ω—Å–∏–æ–Ω–∞—Ç–µ –í–µ—Ä–∏–≥–æ –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –±–æ–ª—å—à–æ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ —É—á–µ–Ω–∏—Ü. –ß–µ—Ä–µ–∑ –≥–æ–¥ –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è —Å—Ç–∞—Ä—à–∞—è —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞, –∞ –≤ 1865 –≥–æ–¥—É, —É–±–µ–¥–∏–≤—à–∏—Å—å, —á—Ç–æ –ø–∞–Ω—Å–∏–æ–Ω –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É–µ—Ç, –¥–æ–º–æ–π –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–µ—Ç –∏ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞.
–ù–æ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–∞–≤–∞–Ω–∏–µ –Ω–µ —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä—è–µ—Ç –µ–µ —Ü–µ–ª–∏–∫–æ–º – —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω–∞ —É–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç –æ—Ç—Ü–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –µ—â–µ –∏ —à–∫–æ–ª—É –¥–ª—è –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö –¥–µ—Ç–µ–π. –Ý–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –≤–Ω–æ–≤—å —Å–æ–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç—Å—è, –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –¥–ª—è —ç—Ç–æ–π —Ü–µ–ª–∏ —É—Å–∞–¥–µ–±–Ω—ã–π —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª—å. –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ª–µ–≥–∫–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç —Å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏ –æ–±—â–∏–π —è–∑—ã–∫ –∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑—É–µ—Ç –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –µ—â–µ –∏ –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫—É, —Å—Å—É–¥–Ω–æ-—Å–±–µ—Ä–µ–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –∫–∞—Å—Å—É, –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –≤–∑–∞–∏–º–æ–ø–æ–º–æ—â–∏ –∏ –∞—Ä—Ç–µ–ª–∏.
–í —Å–≤–æ–µ–π –¥–∏—Å—Å–µ—Ä—Ç–∞—Ü–∏–∏, –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞–º –∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –ò–≤–∞–Ω–∏—à–∫–∏–Ω–∞ –Æ. –í. –æ—Ç–º–µ—á–∞–µ—Ç:
«–ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –æ—Ç–µ—Ü –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç –º–∏—Ä–æ–≤–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–∫–∞; –ø–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏ –ø—Ä–∏ –ø–æ–º–æ—â–∏ –ö.–ú. –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –º–∏—Ä–æ–≤—ã–º —Å—É–¥—å–µ–π –∏–∑–±–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–∏–∫ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –∏ –¥—Ä—É–≥ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ –ö–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã, –≤—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏–∫ –ö–∏–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç–∞ –°–µ—Ä–≥–µ–π –ö–æ–≤–∞–ª–∏–∫.
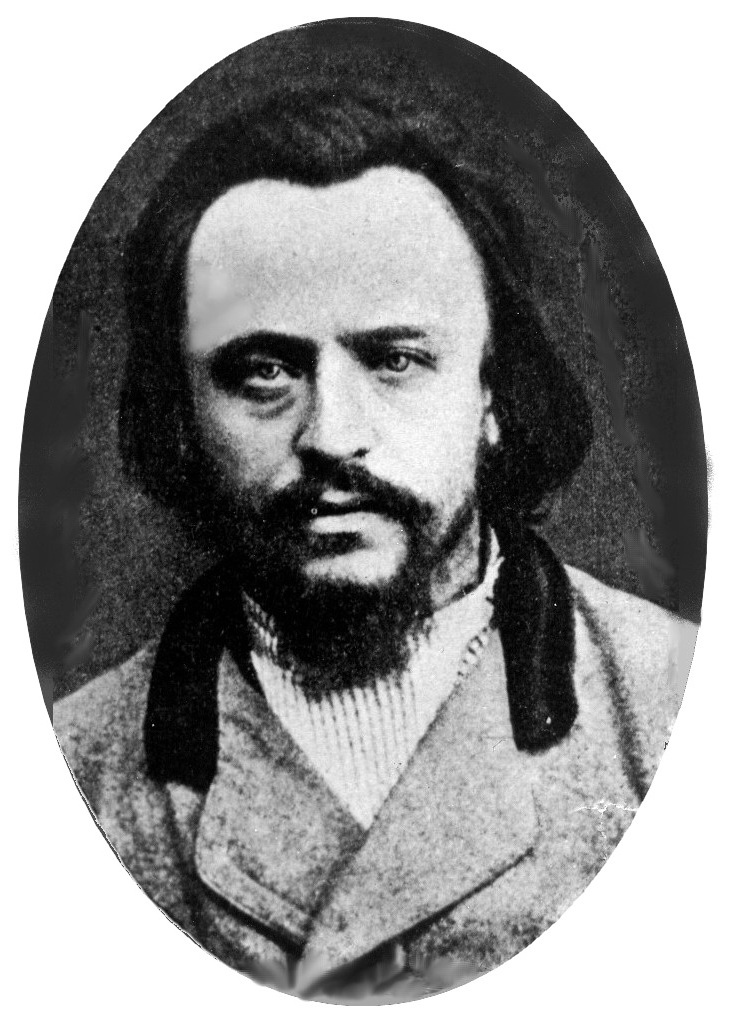 –°–µ—Ä–≥–µ–π –§–∏–ª–∏–ø–ø–æ–≤–∏—á –ö–æ–≤–∞–ª–∏–∫ –°–µ—Ä–≥–µ–π –§–∏–ª–∏–ø–ø–æ–≤–∏—á –ö–æ–≤–∞–ª–∏–∫ |
–≠–Ω–µ—Ä–≥–∏—á–Ω—ã–π, —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–π, —Å —è—Ä–∫–æ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –∂–∏–ª–∫–æ–π, –ö–æ–≤–∞–ª–∏–∫ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –≤—ã–¥–≤–∏–≥–∞–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–∏–π —é—Ä–∏—Å—Ç, –∑–∞—â–∏—â–∞—é—â–∏–π –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—ã –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, –∏ –≤ 1871 –≥–æ–¥—É –∏–∑–±–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å—ä–µ–∑–¥–∞ –º–∏—Ä–æ–≤—ã—Ö —Å—É–¥–µ–π.
–í —ç—Ç–æ–º –∂–µ –≥–æ–¥—É –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤—ã–±–æ—Ä–æ–≤ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–µ —É–µ–∑–¥–Ω–æ–µ –∑–µ–º—Å—Ç–≤–æ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —É–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç –æ—Ç—Ü–∞ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏—Ç—å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å –≥–ª–∞—Å–Ω–æ–≥–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º, –æ–ø—è—Ç—å –∂–µ –ø—Ä–∏ –ø–æ–º–æ—â–∏ —Å–µ–º—å–∏ –í–µ—Ä–∏–≥–æ, —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∏–π –Ω–∞–∏–±–æ–ª—å—à–µ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö –≥–æ–ª–æ—Å–æ–≤ –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –ø–æ–º–µ—â–∏–∫ –ö–µ–Ω–æ–Ω –§–æ–º–∏—á –ë–∞–π–¥–∞–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π.
–¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –≤—Å–µ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞–Ω—è—Ç—ã–º–∏ –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª–∞–º–∏. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω–µ, –∂–∏–≤—à–∏–µ –ø–æ —Å–æ—Å–µ–¥—Å—Ç–≤—É, –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–Ω–µ—Å–ª–∏—Å—å –∫ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –∏ –∏—Ö –¥—Ä—É–∑–µ–π, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –≤ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –µ–µ —Å—Ç–∞—Ä–∞—è –ø–æ–º–µ—â–∏—á—å—è «–ø–∞—Ä—Ç–∏—è» –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –≤—ã—Ç–µ—Å–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π –∏–∑ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –æ—Ä–≥–∞–Ω–æ–≤ —Å–∞–º–æ—É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è. –ü—Ä–µ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–∞ –ï—Å–∏–º–æ–Ω—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π –ª–∏—á–Ω–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥ –∫ –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä—É –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏—Ö –¥–µ–ª —Å –¥–æ–Ω–æ—Å–æ–º, –æ–±–≤–∏–Ω—è—é—â–∏–º –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –∏ –∏—Ö —Å–æ—Ä–∞—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –≤ –∞–Ω—Ç–∏–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–µ».
–ù–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª–æ–≤ –æ–±—Ä—É—à–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≥–Ω–µ–≤ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω—Å–∫–æ–π –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–∏. –û—Ç–µ—Ü –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –ö.–ú. –í–µ—Ä–∏–≥–æ –±—ã–ª —É–¥–∞–ª–µ–Ω —Å –ø–æ—Å—Ç–∞ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–∫–∞ –∑–∞ –Ω–µ–±–ª–∞–≥–æ–Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å, —á–µ—Ç—É –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –æ—Ç–¥–∞—é—Ç –ø–æ–¥ –Ω–∞–¥–∑–æ—Ä –ø–æ–ª–∏—Ü–∏–∏. –°.–§. –ö–æ–≤–∞–ª–∏–∫ –Ω–µ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω –°–µ–Ω–∞—Ç–æ–º –≤ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å—ä–µ–∑–¥–∞ –ú–∏—Ä–æ–≤—ã—Ö —Å—É–¥–µ–π, –∞ –ö.–§. –ë–∞–π–¥–∞–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º –≥–ª–∞—Å–Ω—ã–º –≤—ã—Å–ª–∞–Ω—ã –∏–∑ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä. –í—Å–µ —à–∫–æ–ª—ã, –∫–∞—Å—Å—ã –∏ –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–∏, —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –≤ –æ–¥–Ω–æ—á–∞—Å—å–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã.
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –æ—Ç–≤–µ—á–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≥—Ä–æ–º –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã —É—Ö–æ–¥–æ–º –≤ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –í —Å–≤–æ–µ–π –∞–≤—Ç–æ–±–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ –æ–Ω–∞ –ø–æ–∑–∂–µ –Ω–∞–ø–∏—à–µ—Ç, —á—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –µ–π —Å—Ç–∞–ª–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —è—Å–Ω–æ, «—á—Ç–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –±–æ–∏—Ç—Å—è —Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ –∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –µ–≥–æ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –≤ —Ä–∞–±—Å–∫–æ–º –±–µ—Å–ø—Ä–∞–≤–∏–∏», –∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–æ –µ–µ –∏—Å–∫–∞—Ç—å «–¥—Ä—É–≥–∏–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ –ø–æ–ª—å–∑—É –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–≥–æ –º–Ω–µ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞...».
–ú–∞—Ç—å –∏ —Å—ã–Ω
–í–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –≤ —Å—Å—É–¥–Ω–æ-—Å–±–µ—Ä–µ–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –∫–∞—Å—Å–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã —Å –±—É–¥—É—â–∏–º –º—É–∂–µ–º – —Å–æ—Å–µ–¥—Å–∫–∏–º –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–º, —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∏—á–µ–º –ë—Ä–µ—â–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–º. –ú–æ–ª–æ–¥–æ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è–ª —É–≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏—è –Ω–µ–≤–µ—Å—Ç—ã –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ –∏–¥–µ—è–º–∏, –∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–æ—Å–ª–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–∞ –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –ª—é–¥–∏ –∂–µ–Ω—è—Ç—Å—è.
–ü–æ—Å–ª–µ —Å–≤–∞–¥—å–±—ã –º–æ–ª–æ–¥–æ–∂–µ–Ω—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—é—Ç –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –≤ —à–∫–æ–ª–∞—Ö, —Ä–∞–∑—ä—è—Å–Ω—è–ª–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º –∏—Ö –Ω–æ–≤—ã–µ –ø—Ä–∞–≤–∞ –∏ –æ–±—è–∑–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å —Ä–µ—Ñ–æ—Ä–º–æ–π –∑–µ–º—Å–∫–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ—É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è, –∏ –Ω–∞–ª–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–≤—è–∑–∏ —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–∞–º–∏.
–ù–æ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∑–∞–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –≤ —É–µ–∑–¥–µ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω «–º—É–∂—É –æ–Ω–∞ –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª—è–µ—Ç —É–ª—å—Ç–∏–º–∞—Ç—É–º: –∏–ª–∏ –∏–¥—Ç–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ –ø–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É –µ–π —Ç–µ—Ä–Ω–∏—Å—Ç–æ–º—É –ø—É—Ç–∏, –∏–ª–∏ —Ä–∞–∑–æ–π—Ç–∏—Å—å, - –ø–∏—Å–∞–ª –ª–∏–¥–µ—Ä –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤ –í.–ú. –ß–µ—Ä–Ω–æ–≤. - –ò–¥—Ç–∏ –µ–π –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –æ–¥–Ω–æ–π. –ú—É–∂ –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –≥–¥–µ-—Ç–æ –ø–æ–∑–∞–¥–∏».
–ú—É–∂ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª—Å—è –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–≤ –∏ —Å—á–∏—Ç–∞–ª, —á—Ç–æ –∂–µ–Ω–∞ –µ–≥–æ —Å–∞–º–∞ –≤–ø—Ä–∞–≤–µ —Ä–µ—à–∞—Ç—å: —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å –ª–∏ —Å–µ–º—å—é –∏–ª–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –µ–µ —Ä–∞–¥–∏ «–æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤», –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏—Ç—å –ª–∏ —Å–µ–±—è –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—é –¥–µ—Ç–µ–π –∏–ª–∏ — —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏. –ù–æ –≤–∑–≥–ª—è–¥—ã –µ–≥–æ —É–¥–∞—Ä–∏–ª–∏ –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –ø–æ –Ω–µ–º—É —Å–∞–º–æ–º—É – –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ —É—à–ª–∞ «–≤–µ—Ä—à–∏—Ç—å —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—É—é —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å». –ú—É–∂ –ø–æ–∫–æ—Ä—è–µ—Ç—Å—è —Å—É–¥—å–±–µ, –≤ –∏—Ö –±—Ä–∞–∫–µ «–∂–µ–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–º—è–≥–∫–æ–π –Ω–∞—Ç—É—Ä–æ–π —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –æ–Ω, –∞ –º—É–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –Ω–∞—á–∞–ª–æ –≤–æ–ø–ª–æ—â–µ–Ω–æ –≤ –Ω–µ–π».
–ù–æ —É –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã, –∫—Ä–æ–º–µ –º—É–∂–∞, –µ—Å—Ç—å –µ—â–µ –∏ —Ä–µ–±–µ–Ω–æ–∫, —Ç—Ä–µ—Ö–º–µ—Å—è—á–Ω—ã–π —Å—ã–Ω –ö–æ–ª—è. –ü–æ—Å–ª–µ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –±–µ—Å—Å–æ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–æ—á–µ–π –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–µ–Ω–∞ –∏ —ç—Ç–∞, –µ—â–µ –±–æ–ª–µ–µ —Ç—è–∂–∫–∞—è –∂–µ—Ä—Ç–≤–∞. –ü–æ—Å–ª–µ –¥–æ–ª–≥–∏—Ö –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–π –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Ä–µ—à–∞–µ—Ç—Å—è –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –∏ –µ–≥–æ. –ë–µ–∑–¥–µ—Ç–Ω–∞—è –∂–µ–Ω–∞ –µ–µ –±—Ä–∞—Ç–∞ –í–∞—Å–∏–ª–∏—è –í–µ—Ä–∞ –û—Å–∏–ø–æ–≤–Ω–∞ –í–µ—Ä–∏–≥–æ (—É—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω–∞—è –ê–¥–∞–º–æ–≤–∏—á-–ê–¥–∞—Å—Å–æ–≤—Å–∫–∞—è), –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –≤—ã—Å–æ–∫–æ —Ü–µ–Ω–∏–ª–∞ –∑–∞ –µ–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏–µ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞, —É–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—É –æ—Ç–¥–∞—Ç—å —Ä–µ–±–µ–Ω–∫–∞ –Ω–∞ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ –≤ –∏—Ö —Å–µ–º—å—é. –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ —Å–æ–≥–ª–∞—à–∞–µ—Ç—Å—è, –∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –≤—ã—Ä–∞—Å—Ç–∞–µ—Ç, «—Å—á–∏—Ç–∞—è —Å–≤–æ—é —Ç–µ—Ç–∫—É –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é, –∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â—É—é –º–∞—Ç—å - —Ç–µ—Ç–∫–æ–π...».
–í –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç —Å–≤–æ–µ–π —Å–µ—Å—Ç—Ä—ã, –í–∞—Å–∏–ª–∏–π «–∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥–æ–≤–∞–ª» –º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏–∑–º, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–æ—Å—å –∏ –ø–ª–µ–º—è–Ω–Ω–∏–∫—É, –∫–∞–∫, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∏ –ª—é–±–æ–≤—å –∫ –∫–Ω–∏–≥–µ, –ø–µ—Ä—É –∏ —á–∏—Å—Ç–æ–º—É –ª–∏—Å—Ç—É –±—É–º–∞–≥–∏…
–î—è–¥—è, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ, –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –¥–∞—Ç—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—é –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è — —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –Ω–∞ –≥–∏–º–Ω–∞–∑–∏—é –∏ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏—Ç—å—Å—è —Ä–µ–º–µ—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º —É—á–∏–ª–∏—â–µ–º. –û–∫–æ–Ω—á–∏–≤ –µ–≥–æ –≤ 1893-–º, –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, –≥–¥–µ, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–≤—è–∑—è–º, –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –º–µ—Å—Ç–æ –º–µ–ª–∫–æ–≥–æ –∫–ª–µ—Ä–∫–∞ –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω—Ç–æ—Ä.
–ß–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞, –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–≤ —Å–≤–æ–π –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑, –æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Å–ª—É–∂–±—É, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º –±–µ–ª–ª–µ—Ç—Ä–∏—Å—Ç–æ–º –∏ —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π —É—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ «–ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ». –ù–µ –±—ã–ª–æ –≤ —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–µ–π —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü–µ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∞ –∏–ª–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã, –≥–¥–µ –æ–Ω –±—ã –Ω–µ –ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–ª—Å—è.
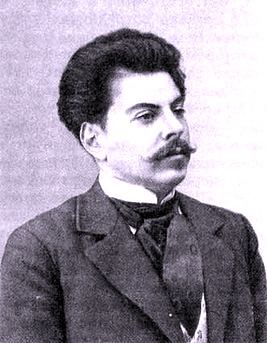 –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π |
–í–æ—Ç —á—Ç–æ –ø–∏—Å–∞–ª –≤ —Å—Ç–∞—Ç—å–µ –æ–± –ù.–ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º –µ–≥–æ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π —Å –ø–∞—Ä–∏–∂—Å–∫–∏–º–∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–º–∏ –∫—Ä—É–≥–∞–º–∏, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ù–µ–≤–∞—Ö–æ–≤–∏—á:
«–ù–æ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞—é—â–∏–º, –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ —Ç–µ–º–ø–µ—Ä–∞–º–µ–Ω—Ç–Ω—ã–º —Ä–æ–º–∞–Ω–∞–º –æ–±—è–∑–∞–Ω –ù. –ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å–≤–æ–µ–π –∑–∞—Å–ª—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å—é. –¢–∞–ª–∞–Ω—Ç–ª–∏–≤—ã–π –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç, —á—É—Ç–∫–∏–π –∏ –∑–æ—Ä–∫–∏–π —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–π –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫ — —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç–æ—Ä–æ–≤, —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞ –æ–±—è–∑–∞–Ω—ã –µ–º—É —Å–≤–æ–µ–π –∫–∞—Ä—å–µ—Ä–æ–π. –ö–æ—Ä–æ–ª—å —Ä—É—Å—Å–∫–∞–≥–æ «–∞–≤–∞–Ω—Ç—é—Ä–Ω–∞–≥–æ» —Ä–æ–º–∞–Ω–∞ (–∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç –≤ –ª—É—á—à–µ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–ª–æ–≤–∞) –Ω–µ –º–∞–ª–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—é –∏ –ø—Ä–æ—Ü–≤–µ—Ç–∞–Ω–∏—é —Ç–æ–ª—å–∫–æ-—á—Ç–æ –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞—Ä–æ–¥–∏–≤—à–µ–π—Å—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–∏, –¥–∞–≤—à–µ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –∏–º–µ–Ω–∞ –ù–µ—Å—Ç–µ—Ä–æ–≤–∞, –ï—Ñ—Ä–µ–º–æ–≤–∞, –£–ª—å—è–Ω–∏–Ω–∞ –∏ –¥—Ä. –ë–æ—Ä—å–±–∞, –ª–µ–≥–∫–∞—è –∞—Ç–ª–µ—Ç–∏–∫–∞, –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω—ã–π –∏ –ø–∞—Ä—É—Å–Ω—ã–π —Å–ø–æ—Ä—Ç — –≤—Å–µ–º—É —ç—Ç–æ–º—É, —Å–∞–º —Å–ø–æ—Ä—Ç—Å–º–µ–Ω, –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏–ª –ù. –ù. –Ω–µ –º–∞–ª–æ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–ª–∏–≤—ã—Ö —Å—Ç–∞—Ç–µ–π –∏ –æ—á–µ—Ä–∫–æ–≤».
–û –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –æ–Ω –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª, –Ω–∞ –ø–∏—Å—å–º–∞ –æ—Ç—Ü–∞ –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–µ–º—å–µ–π —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ –æ–±–∑–∞–≤–æ–¥–∏–ª—Å—è, –±–æ—è—Å—å, —á—Ç–æ –≤ –±—Ä–∞–∫–µ —Å–∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è «—Å–µ–º–µ–π–Ω–∞—è –Ω–∞—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å», —à—É–º–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–π –∏–∑–±–µ–≥–∞–ª, –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á–∏—Ç–∞—è —Ä–µ—Å—Ç–æ—Ä–∞–Ω–Ω–æ–º—É –∑–∞—Å—Ç–æ–ª—å—é –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Å—Ç–æ–ª.
–í—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ —Å «—Ç—ë—Ç–µ–π –ö–∞—Ç–µ–π», –∫–∞–∫ –æ–Ω –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª –º–∞—Ç—å, –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∞ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1897 –≥. –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –æ—Ç—Ü–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –∏–∑ —Å—Å—ã–ª–∫–∏, –∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—é –±—ã–ª–æ —É–∂–µ 23 –≥–æ–¥–∞. –í–æ –≤—Ä–µ–º—è —É–∂–∏–Ω–∞, —Ä–µ—á—å –∑–∞—à–ª–∞ –æ–± –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–µ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–µ II, –∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á—É–¥–æ–≤–∏—â–Ω—ã–º –∏ –Ω–µ–ª–µ–ø—ã–º –±—ã–ª–æ —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–æ —Ü–∞—Ä—è, –¥–∞–≤—à–µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥—É —Ç–∞–∫–∏–µ —Ä–µ—Ñ–æ—Ä–º—ã. –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –æ—Ç—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞ —ç—Ç–∏ —Å–ª–æ–≤–∞ –æ—á–µ–Ω—å —Ä–µ–∑–∫–æ; –≤—Å—Ç–∞–≤ –∏–∑-–∑–∞ —Å—Ç–æ–ª–∞, –æ–Ω–∞ –∑–∞—è–≤–∏–ª–∞: «–ó–∞ —ç—Ç–æ —Ç–µ–±–µ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –±—ã –¥–∞—Ç—å –ø–æ—â–µ—á–∏–Ω—É!» — –∏ –≤—ã—à–ª–∞ –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã. –ö–∞–∫ «–ª–µ–¥» –∏ «–ø–ª–∞–º–µ–Ω—å», —Ç–∞–∫ –∏ –º–∞—Ç—å —Å —Å—ã–Ω–æ–º, —Ö–æ—Ç—è –∏ –ø–æ–º–∏—Ä–∏–ª–∏—Å—å, –Ω–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ-–Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –∏ –Ω–µ —Å–±–ª–∏–∑–∏–ª–∏—Å—å.
–í 1930 –≥ –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–µ «–ñ—É—Ç–∫–∞—è —Å–∏–ª–∞» –æ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Ä–∞—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è—Ö –º–∏—Ä–æ–≤–æ–∑—Ä–µ–Ω–∏–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –∏ —Å—ã–Ω–∞ –ê. –ò. –ö—É–ø—Ä–∏–Ω –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª:
«–≠—Ç–∞ —Å—Ç–∞—Ä–µ–Ω—å–∫–∞—è —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∫–∞ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –≤–µ—Ä–∏—Ç –≤ –ë–æ–≥–∞, —É–º–∏–ª—å–Ω–æ –∑–æ–≤–µ—Ç –ª—é–¥–µ–π –∫ –¥—Ä—É–∂–±–µ, –ª—é–±–≤–∏ –∏ –±—Ä–∞—Ç—Å—Ç–≤—É. –ù–æ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –±–æ—Ä—å–±–∞ —Å–æ —Å—Ç–∞—Ä—ã–º —Ä–µ–∂–∏–º–æ–º –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∞ –≤ –µ–µ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –æ—Ä–µ–æ–ª–æ–º –≤–µ–ª–∏—á–∏—è –∏ –º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞. –ò –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –æ–Ω–∞ –≥–æ—Ä–¥–∏—Ç—Å—è «–∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–Ω–∏—è–º–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏».
–°–æ–≤—Å–µ–º –∏–Ω–∞—á–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç –ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –Ω–∞ —ç—Ç–∏ –∏–¥–µ–∏ –∏ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è. –û–Ω –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –∑–∞–±—ã–≤–∞–µ—Ç —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –µ—â–µ –¥–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —É–∂–∞—Å–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã, —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã –¥–æ–¥—É–º–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª–∏ «–Ω–µ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω—Ü–∞–º–∏», –∏ –¥–∞–∂–µ –µ—â–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–µ–µ — «–ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω—Ü–∞–º–∏» –∏ —Ä–∞–∑–ª–æ–≥–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∞—Ä–º–∏–∏… –∏ —ç—Ç–æ –≤ –≥–æ–¥—ã –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–µ–≥–æ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è, –ø–æ—Å—Ç–∏–≥—à–µ–≥–æ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É.
–ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–∏–¥–µ–ª —ç—Ç—É —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—é –∏ –µ–µ –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–Ω–∏—è —Å —Å–∞–º–æ–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –∏–Ω–∞—á–µ. –û–Ω –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Å–Ω–∏–∑—É –≤–∑–±—É–Ω—Ç–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥–µ–∑–µ—Ä—Ç–∏—Ä—ã, –±–µ–≥–ª—ã–µ –∫–∞—Ç–æ—Ä–∂–Ω–∏–∫–∏, –±—Ä–æ–¥—è–≥–∏, –≥—Ä–∞–±–∏—Ç–µ–ª–∏ –∏ –ø—Ä–æ—á–∞—è —Å–≤–æ–ª–æ—á—å; –∞ –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö—É —Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ –≤–∑—è—Ç—å –≤–ª–∞—Å—Ç—å –Ω–∏—á—Ç–æ–∂–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –Ω–∞—à–µ–π –∂–∞–ª–∫–æ–π –Ω–µ–≤—Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–π, –±–æ–ª—Ç–ª–∏–≤–æ–π, —Ç—Ä—É—Å–ª–∏–≤–æ–π, —É–¥–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π, –∫–∞—Ä–ª–∏–∫–æ–≤–æ–π –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–∏–≥–µ–Ω—Ü–∏–∏. –•–æ—Ç–µ–ª–∏ –≤–∑—è—Ç—å –∏ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏, —Ö–æ—Ç—è –æ–Ω–∞ –≤–∞–ª—è–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ. –°—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ –µ–µ –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–∏: —Ñ–∞–Ω–∞—Ç–∏–∫–∏, –¥–ª—è –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ä–æ–¥–∏–Ω–∞, –≤—Å–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤ 150 –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–æ–≤, —Å—Ç–∞–ª–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–º –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–º –¥–ª—è –ø–æ–¥—Ç–æ–ø–∫–∏ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏…–° –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö –∂–µ –¥–Ω–µ–π –ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–æ–∑–Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥–µ–ª —Ç–∞–∫—É—é —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—é –∏ —Ç–∞–∫–æ–π –∫–∞–Ω–Ω–∏–±–∞–ª—å—Å–∫–∏–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º, –∞, –≤–æ–∑–Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥–µ–≤, –ø—Ä–æ–∫–ª–∏–Ω–∞–ª –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ —É—Å—Ç–Ω–æ, –∏ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω–æ».
–ï—â–µ –æ–¥–Ω–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –∏ —Å—ã–Ω–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∞ —É–∂–µ –ø–æ—Å–ª–µ –§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ 1917 –≥. –≠—Ç–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∞ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª–∏—á–Ω–æ–º –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ–º –≤–æ–∫–∑–∞–ª–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–∞—Ç—å –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∞—Å—å –∏–∑ —Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–æ–π —Å—Å—ã–ª–∫–∏. –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω—É—é –¥–∞–º—É, —É—Å—Ç–∞–≤—à—É—é –æ—Ç —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –±—É—Ä–Ω–æ–π –¥–ª—è –ª—é–¥–µ–π –µ–µ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞ (73 –≥–æ–¥–∞) –∂–∏–∑–Ω–∏. –ù–æ — –ø—Ä–æ—Å—á–∏—Ç–∞–ª—Å—è, «–±–∞–±—É—à–∫—É —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏» –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –≤ –ü–∏—Ç–µ—Ä —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –≤–∞–≥–æ–Ω, –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∏ –µ–µ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –∫–∞–∫ –æ—á–µ–Ω—å –≤–ª–∏—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–∞ — —Å –ø–æ—á–µ—Ç–Ω—ã–º –∫–∞—Ä–∞—É–ª–æ–º –∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–º –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä–æ–º… –£—Å–ª—ã—à–∞–≤ –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é —Ä–µ—á—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–≤—à–∏—Ö –∏ –º–∞—Ç—É—à–∫–∏–Ω –æ—Ç–≤–µ—Ç, –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á, –ø–æ–º–æ—Ä—â–∏–≤—à–∏—Å—å, –≤—ã–≤–µ–ª –¥–ª—è —Å–µ–±—è: «–ü–æ–≥–∏–±–ª–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏—è»…
–£–∂–µ –∫ –∫–æ–Ω—Ü—É XIX –≤–µ–∫–∞ –∏–º—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –≤–æ –≤—Å–µ—Ö —É–≥–æ–ª–∫–∞—Ö –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –ø–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –º–µ—Ä–µ —Ç–∞–º, –∫—É–¥–∞ –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –∫–Ω–∏–≥–∏, –∂—É—Ä–Ω–∞–ª—ã –∏ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã —Å –µ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ç—å—è–º–∏… –í –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö —Å—é–∂–µ—Ç–æ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –æ–±—ä–µ—Ö–∞–ª –≤—Å—é –Ý–æ—Å—Å–∏—é –∏ –ø–æ–ª–º–∏—Ä–∞, –ø–æ–±—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –≤–æ–π–Ω–∞—Ö, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω–æ –≤—ã—Å—ã–ª–∞–ª –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É —Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç–∞–∂–∏ –∏ –æ—á–µ—Ä–∫–∏. –ê –≤ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–µ –ø–µ—Ä–µ—Ä—ã–≤—ã –º–µ–∂–¥—É –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤–∫–∞–º–∏, –æ–Ω –ø–∏—Å–∞–ª –ø—Ä–∏–∫–ª—é—á–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ä–æ–º–∞–Ω—ã – –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞—è, –≤–∏–¥–∏–º–æ «–¥—É—à–æ–π –∏ —Ç–µ–ª–æ–º».
–û —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –µ–≥–æ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ù–µ–≤–∞—Ö–æ–≤–∏—á –ø–∏—Å–∞–ª:
«–ö—É–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ —É–≤–æ–¥–∏–ª –Ω–∞—Å —Å —Å–æ–±–æ—é –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á? –í –∑–Ω–æ–π–Ω—ã–µ —Å—Ç–µ–ø–∏ –ê—Ä–≥–µ–Ω—Ç–∏–Ω—ã, —Ç—Ä–æ–ø–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ª–µ—Å–∞ –ë—Ä–∞–∑–∏–ª–∏–∏, –∑—ã–±—É—á–∏–µ –ø–µ—Å–∫–∏ –ê—Ñ—Ä–∏–∫–∏!.. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ–æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö, —Å–º–µ–ª—ã—Ö –ø—Ä–∏–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–π –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–ª–∏ –º—ã –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –µ–≥–æ –≥–µ—Ä–æ—è–º–∏, –∫–∞–∫ —Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏—Ö —É—Å–ø–µ—Ö–∞–º, –∫–∞–∫ —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ –∏–º –≤ –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç–∏—è—Ö!.. –ê —ç—Ç–∏ –≥–µ—Ä–æ–∏, —Å–º–µ–ª—ã–µ, –æ—Ç–≤–∞–∂–Ω—ã–µ –∏ –¥–µ—Ä–∑–∫–∏–µ… –ò—Ö –º—ã –Ω–µ –∑–∞–±—ã–ª–∏, –∏–º–µ–Ω–∞ –∏—Ö –∑–∞–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–ª–∏—Å—å –≤ –Ω–∞—à–µ–π –ø–∞–º—è—Ç–∏, –∏ –Ω–∏ –∫—Ä–æ–≤–∞–≤–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞, –Ω–∏ —Å—É–º–±—É—Ä–Ω—ã–µ –≥–æ–¥—ã —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π —Å–º—É—Ç—ã, –Ω–∏ –º–æ–Ω–æ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–µ, —Ç—É—Å–∫–ª—ã–µ –¥–Ω–∏ —ç–º–∏–≥—Ä–∞—Ü–∏–∏ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ –≤—ã—Ç–µ—Å–Ω–∏—Ç—å –∏—Ö –∏–∑ —Ç–∞–π–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞—à–µ–≥–æ „—è”…»
–û –∂–∏–∑–Ω–∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ä–æ–º–∞–Ω, —Ç–∞–∫ –º–Ω–æ–≥–æ –≤ –Ω–µ–π –ø–µ—Ä–µ–ø–ª–µ–ª–æ—Å—å –≤—Å–µ–≥–æ — –∞–≤–∞–Ω—Ç—é—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ, –≤—ã–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ, –ø—Ä–∏–∑–µ–º–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏ –Ω–µ–µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ, –≤—ã—Å–æ–∫–æ–≥–æ –∏ –Ω–∏–∑–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ…
–ï–≥–æ —á–∏—Ç–∞–ª–∏ –≤–∑–∞—Ö–ª–µ–±, –∑–∞ –µ–≥–æ –∫–Ω–∏–≥–∞–º–∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–∞—Ö –≤ –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å, –∞ –≤ –∫–Ω–∏–∂–Ω—ã—Ö –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–∞—Ö «—Å–º–µ—Ç–∞–ª–∏» –∏—Ö —Ç–∏—Ä–∞–∂–∏ –≤ —Å—á–∏—Ç–∞–Ω–Ω—ã–µ —á–∞—Å—ã, –µ–≥–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–º –î—é–º–∞ –∏ –ñ–æ—Ä–∂–µ–º –°–∏–º–µ–Ω–æ–Ω–æ–º, –∑–∞ –Ω–∏–º –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –¥–æ–ª–≥–∏–µ –≥–æ–¥—ã —Ç–∏—Ç—É–ª –∫–æ—Ä–æ–ª—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ «–ø—Ä–∏–∫–ª—é—á–µ–Ω—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ» —Ä–æ–º–∞–Ω–∞. –ë–æ–ª–µ–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–¥–µ–Ω—ã –Ω–∞ –ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–π –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ —è–∑—ã–∫–∏ (—Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–π, –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–π, –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–π, –ª–∞—Ç—ã—à—Å–∫–∏–π…).
–í–æ—Ç –∫–∞–∫ –æ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –∏ –µ–≥–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è—Ö —Å –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–æ–π —Ç–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–µ «–ñ—É—Ç–∫–∞—è —Å–∏–ª–∞» –ø–∏—Å–∞–ª –ê. –ò. –ö—É–ø—Ä–∏–Ω:
«–û –ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º –º–∞–ª–æ –ø–∏—Å–∞–ª–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è –∫—É–º–æ–≤—Å–∫–∞—è –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–∞, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤—ã—Ö–≤–∞–ª—è–≤—à–∞—è —Å–≤–æ–π –ª–∞–≥–µ—Ä—å –∏ —Ç–æ–ø—Ç–∞–≤—à–∞—è –Ω–æ–≥–∞–º–∏ —Å–≤–µ–∂–µ–µ –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–µ –¥–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ. –ß—Ç–æ–±—ã –≤—ã–¥–≤–∏–Ω—É—Ç—å—Å—è, —Ä–æ–º–∞–Ω–∏—Å—Ç—É –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –±—ã—Ç—å: –≤ –¥–µ–≤—è–Ω–æ—Å—Ç—ã–µ –≥–æ–¥—ã — –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–º. –ü–µ—Ä–µ–¥ —è–ø–æ–Ω—Å–∫–æ—é –≤–æ–π–Ω–æ—é — —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–æ–º –∏–ª–∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–º. –ü–æ—Å–ª–µ —è–ø–æ–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã — –±—É—Ä–µ–≤–µ—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–º, —Å–æ–∫–æ–ª–æ–º, –±–æ—Å—è–∫–æ–º –∏–ª–∏ –ß–µ–ª–∫–∞—à–æ–º — —Å –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Å–Ω–æ–≤, —Å –ø—Ä–µ–∑—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –∫ –Ω–∞—Ä–æ–¥—É, —Å –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç—å—é –∫ –º–µ—â–∞–Ω—Å—Ç–≤—É –∏ –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–∏–∏. –ü–µ—Ä–µ–¥ –±–æ–ª—å—à–æ–π –≤–æ–π–Ω–æ–π –∏ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –µ–µ –≤–∫—É—Å—ã –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –Ω–µ–ª–µ–ø–æ –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω–∏–ª–∏—Å—å: –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª—Å—è –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å-–¥–µ–∫–∞–¥–µ–Ω—Ç, –∏–º–ø—Ä–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∏—Å—Ç, —Ñ—É—Ç—É—Ä–∏—Å—Ç, –¥–∏–¥–æ–∏—Å—Ç, –∞–∫–º–µ–∏—Å—Ç –∏ —Ä–∞–∑–≤—Ä–∞—Ç–Ω–∏–∫. –ì—Ä–æ–º–∫–æ –≤—ã—Ö–≤–∞–ª—è–ª–∏—Å—å — —Å–∞–º–æ—É–±–∏–π—Å—Ç–≤–∞, –Ω–∞—Ä–∫–æ–º–∞–Ω–∏—è, —Å–∫–æ—Ç–æ–ª–æ–∂—Å—Ç–≤–æ –∏ –ø–µ–¥–µ—Ä–∞—Å—Ç–∏—è. –í –º–æ–¥–µ —Å—Ç–∞–ª –ª–∏–º–±—É—Ä–≥—Å–∫–∏–π —Å—ã—Ä, –∞–Ω–∞–Ω–∞—Å—ã –≤ —à–∞–º–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–º –∏ –∑–∞–ø–∞—Ö —Ç–ª–µ–Ω–∏—è. <…> –ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –Ω–µ—á–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–∏ –≤ —ç—Ç–æ–π –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ, –Ω–∏ –Ω–∞ –º–∏—Ç–∏–Ω–≥–∞—Ö, –Ω–∏ –Ω–∞ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –±–∞–Ω–∫–µ—Ç–∞—Ö, –Ω–∏ –Ω–∞ –ª–µ–∫—Ü–∏—è—Ö, –Ω–∏ –Ω–∞ —ç—Ç–∏—Ö –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã—Ö —Å–ø–æ—Ä–∞—Ö. –û–Ω –ø–∏—Å–∞–ª —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª, –∏ –æ —Ç–æ–º –∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ–º, —á—Ç–æ –ø–ª–µ–Ω—è–ª–æ –µ–≥–æ –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ. –û–Ω –Ω–µ –º–æ–≥ –∏ –Ω–µ —É–º–µ–ª –ø–µ—Ç—å –Ω–∞ –º–æ—Ç–∏–≤—ã, –Ω–∞—Å–≤–∏—Å—Ç–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å —á—É–∂–æ–≥–æ –≥–æ–ª–æ—Å–∞».

–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ö—É–ø—Ä–∏–Ω –∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π
–Ω–∞ –¥–∏–≤–∞–Ω–µ –≤ —à–∫–æ–ª–µ –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—è –ü. –Ý–æ–º–∞–Ω–µ–Ω–∫–æ, —Ñ–æ—Ç–æ 1912 –≥.
–ü–æ—Å–ª–µ 1920 –≥. –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –∏–∑ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —ç–º–∏–≥—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª. –û–±–æ—Å–Ω–æ–≤–∞–≤—à–∏—Å—å —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤ –í–∞—Ä—à–∞–≤–µ, –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª –≤ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∏–∫–µ –∏ –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ä–æ–º–∞–Ω–æ–≤. –í 1920-–µ—1930-–µ –≤—ã—à–ª–æ —Å–≤—ã—à–µ 30 –ø–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–æ–≤ –µ–≥–æ —Ä–æ–º–∞–Ω–æ–≤ –∏ –∫–Ω–∏–≥ –æ—á–µ—Ä–∫–æ–≤. –í 1927 –ø–æ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—é –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π –ø–æ–∫–∏–Ω—É–ª —Å—Ç—Ä–∞–Ω—É –≤ —Å–≤—è–∑–∏ —Å –µ–≥–æ —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–µ–π –Ω–∞ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è –≤ –ü–æ–ª—å—à–µ (–≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–∞ –º–∞–π—Å–∫–∏–π –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç 1926 –≥–æ–¥–∞), –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤ –µ–≥–æ —Ä–æ–º–∞–Ω–µ «–ö—Ä–æ–≤–∞–≤—ã–π –º–∞–π». –ñ–∏–ª –≤ –ü–∞—Ä–∏–∂–µ. –°–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–∞–ª –≤ —ç–º–∏–≥—Ä–∞–Ω—Ç—Å–∫–æ–π –ø–µ—á–∞—Ç–∏ –∏ –≤–æ —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏—Ö –≥–∞–∑–µ—Ç–∞—Ö.
–í –≥–æ–¥—ã –í—Ç–æ—Ä–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∂–∏–ª –≤ –ë–µ—Ä–ª–∏–Ω–µ, —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–∞—è —Å –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ—è–∑—ã—á–Ω—ã–º–∏ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏—è–º–∏. –ó. –ï. –ü—Ä–æ—Ç—á–µ–Ω–∫–æ —Å–≤–æ–µ–º—É —Å—ã–Ω—É –í–∞—Å–∏–ª–∏—é —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ–∫–∫—É–ø–∞—Ü–∏–∏ –Ω–µ–º—Ü–∞–º–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞, –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª –≤ —Ä–æ–¥–æ–≤–æ–µ –∏–º–µ–Ω–∏–µ —Å–≤–æ–µ–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Å —Ü–µ–ª—å—é –Ω–∞—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏—è, –Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º –µ–≥–æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º –∏ —É–µ—Ö–∞–ª –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –≤ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—é. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –µ–≥–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –ø–æ—Å–µ—â–µ–Ω–∏–µ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. 24 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1943 –≥–æ–¥–∞ –∂–∏–∑–Ω—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –≤ 69 –ª–µ—Ç —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ–±–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å – –æ–Ω –ø–æ–≥–∏–± –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –±–æ–º–±–µ–∂–∫–∏ –≥–µ—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—ã –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–π –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–µ–π.
–í—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–µ —Ä–∞–∑–Ω–æ–≥–ª–∞—Å–∏–π —Å –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–æ–π, –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–º–æ–π –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –µ–≥–æ –∏–º—è –≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–º –°–æ—é–∑–µ, –∫–∞–∫ –∏ –∏–º—è –µ–≥–æ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏, –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∑–∞—Å–ª—É–∂–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–±—ã—Ç–æ. –í–º–µ—Å—Ç–æ —á—Ç–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏–∫–ª—é—á–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ä–æ–º–∞–Ω–æ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –º—ã, –¥–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á–∏—Ç–∞–µ–º –∑–∞—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è —Ä–æ–º–∞–Ω–∞–º–∏ –ê. –î—é–º–∞ –∏ –ñ. –°–∏–º–µ–Ω–æ–Ω–∞, –Ω–∞–∏–≤–Ω–æ –ø–æ–ª–∞–≥–∞—è, —á—Ç–æ —Å–≤–æ–∏—Ö, —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–º–æ–≥–æ —Å –Ω–∏–º–∏ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–∞ –≤ —Å—Ñ–µ—Ä–µ –ø—Ä–∏–∫–ª—é—á–µ–Ω—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∂–∞–Ω—Ä–∞ —É –Ω–∞—Å –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–ù–∞—á–∞–ª–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏
–í —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ 1873 –≥–æ–¥–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—â–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–∂–∞–µ—Ç –≤ –ö–∏–µ–≤, –≥–¥–µ –ø–æ—Å–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ —É —Å–µ—Å—Ç—Ä—ã –û–ª—å–≥–∏, –ø–æ –º—É–∂—É –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–æ–π. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ–ª–∞ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–∞ –≤ –∫–∏–µ–≤—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ä–µ–¥–µ. –ù–æ–≤—ã–µ –¥—Ä—É–∑—å—è –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ç–∞–∫–∂–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –∂–∏—Ç—å –≤ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ –û–ª—å–≥–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è «–Ω–µ –∏–º–µ–ª–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–∏—Ä–æ—Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞–Ω–∏—è, –Ω–æ –±—ã–ª–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –≤ –≤—ã—Å—à–µ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –¥–æ–±—Ä–∞—è –∏ —á—É—Ç–∫–∞—è». –ù–µ —è–≤–ª—è—è—Å—å —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫–æ–π, –æ–Ω–∞ —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–µ –∏ –µ–µ –¥—Ä—É–∑—å—è–º, –∏ –ø–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∞ –∏–º. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –û–ª—å–≥–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ–ø–æ—Å—Ç–∏–∂–Ω–æ —Å–∫–æ–Ω—á–∞–ª–∞—Å—å, –Ω–æ –ø—Ä–∏ –µ–µ –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ –ø–æ—Å–µ–ª–∏–ª–æ—Å—å –µ—â–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–æ–≤, – —Å–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º —ç—Ç–æ –æ–±—â–µ–∂–∏—Ç–∏–µ –∏ –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª–æ –Ω–∞—á–∞–ª–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—é –ö–∏–µ–≤—Å–∫–æ–π –∫–æ–º–º—É–Ω—ã.
–ö–∏–µ–≤—Å–∫–∞—è –ö–æ–º–º—É–Ω–∞ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∞—Å—å –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥—ã–¥—É—â–∏—Ö —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∫—Ä—É–∂–∫–æ–≤ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ–º –∫–∞–∫–æ–≥–æ-–ª–∏–±–æ —É—Å—Ç–∞–≤–∞, —Ä–µ–≥–ª–∞–º–µ–Ω—Ç–∏—Ä—É—é—â–µ–≥–æ –∂–∏–∑–Ω—å –∏ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–æ–º–º—É–Ω–∞—Ä–æ–≤. –ü—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞—é—â—É—é —Ä–æ–ª—å –≤ –ö–æ–º–º—É–Ω–µ –∏–≥—Ä–∞–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–∏ –∏–¥–µ–π –ë–∞–∫—É–Ω–∏–Ω–∞.
–ñ–µ–ª–∞—è –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Å—Ç–∏ –Ω–æ–≤—ã–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–∞ –≤ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ä–µ–¥–µ, –æ—Å–µ–Ω—å—é 1873 –≥–æ–¥–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –µ–¥–µ—Ç –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è, –∑–∏–º–æ–π 1873-74 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ –∫–∏–ø–µ–ª–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å: –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∑–¥–µ—Å—å –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –∏ —Å–æ–∑—Ä–µ–ª–æ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ, –≤–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–µ–µ —à–∏—Ä–æ–∫—É—é –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥». –ü—Ä–∏—á–∏–Ω—É –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏ –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–µ—Ç –≤ –±—Ä–æ—à—é—Ä–µ «–ò–∑ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π».
«–ö–∏–µ–≤ –∏–º–µ–ª —Å–≤—è–∑–∏, –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º —Å —é–≥–æ–º –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –ü–∏—Ç–µ—Ä –∂–µ –∑–Ω–∞–ª –º–Ω–æ–≥–æ –±–æ–ª—å—à–µ, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ —Å—é–¥–∞ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å —Å–æ –≤—Å–µ—Ö –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –∏ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω–æ, –∏ –ª–∏—á–Ω–æ, –∑–∞ –≤—Å–µ–º–∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–∫–∞–º–∏. –í –ü–∏—Ç–µ—Ä–µ —è –±—ã–ª–∞ –Ω–æ–≤—ã–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º –¥–ª—è –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π, –Ω–æ —è –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∞ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–π –ø–æ –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∏ –∏, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –∏–º, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç—É –º–æ–µ–º—É –∏ –º–æ–µ–π –º–Ω–æ–≥–æ–ª–µ—Ç–Ω–µ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –ø–æ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω—ã–º –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–Ω–∏—è–º, –º–µ–Ω—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∏ –∫–∞–∫ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å—Å—è».
–ù–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω—è–ª–æ –∞–Ω—Ç–∏—Ñ–µ–æ–¥–∞–ª—å–Ω—É—é –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—É —Å —É—Ç–æ–ø–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–æ–º, –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ç–µ–æ—Ä–∏–∏ –ê. –ò. –ì–µ—Ä—Ü–µ–Ω–∞, –ù. –ü. –û–≥–∞—Ä—ë–≤–∞, –ù. –ì. –ß–µ—Ä–Ω—ã—à–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–µ–ø–æ—Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –∫ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º—É —á–µ—Ä–µ–∑ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫—É—é –æ–±—â–∏–Ω—É, –º–∏–Ω—É—è –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–ª–∏–∑–º. –í 1860—1870-–µ –≥., –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –æ–±—ä–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏–π –¥–ª—è —Å–æ—Ü–∏–∞–ª-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è, –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ —è–≤–ª—è–ª–æ—Å—å –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π —Ç–µ–æ—Ä–∏–µ–π –∏ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ–º.
–í –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–µ—Ç —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞ –°.–§. –ö–æ–≤–∞–ª–∏–∫–∞. –ü–æ—Å–ª–µ —Ä–∞–∑–≥—Ä–æ–º–∞ –∑–µ–º—Å–∫–∏—Ö —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–π –≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º —É–µ–∑–¥–µ, –æ–Ω –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª –≤ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—É, –≥–¥–µ —Å—Ç–∞–ª –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–º —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä—É–∂–∫–∞, —á–ª–µ–Ω—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –∞–Ω–∞—Ä—Ö–∏—Å—Ç—Å–∫–∏—Ö –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–≤. –ö–æ–≤–∞–ª–∏–∫, –∫–∞–∫ –∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è, –≤ —ç—Ç–æ—Ç –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ —É–∂–µ –∏–º–µ–ª —Å–≤—è–∑–∏ –≤ –ö–∏–µ–≤–µ, –∏ –≤–µ—Å–Ω–æ–π 1874 –≥–æ–¥–∞, –ø–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–∏ –Ω–∞ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—É –∏–∑ –ø–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–∏—Ö –∞–≥–∏—Ç–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤, –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—É—é –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –∫—Ä—É–∂–æ–∫, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∏–π –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º «–ö–∏–µ–≤—Å–∫–∞—è –∫–æ–º–º—É–Ω–∞».
–í—Å–µ –≤—Ä–µ–º—è —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è –ö–∏–µ–≤—Å–∫–æ–π –∫–æ–º–º—É–Ω—ã —à–ª–∞ –∏–Ω—Ç–µ–Ω—Å–∏–≤–Ω–∞—è –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –µ–µ —á–ª–µ–Ω–æ–≤ –∫ «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥» – –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π –∑–∞–¥–∞—á–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∏ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–∞ –≤—Å—è –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–æ–º–º—É–Ω—ã. –í –ö–∏–µ–≤–µ –±—ã–ª–∞ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–∞ —à–∫–æ–ª–∞ –æ–±—É—á–µ–Ω–∏—è –±—É–¥—É—â–∏—Ö –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç–æ–≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–º —Ä–µ–º–µ—Å–ª–∞–º, —Å —Ü–µ–ª—å—é –∏—Ö –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏ –¥–ª—è –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥». –í –∫–æ–º–º—É–Ω–µ —Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–µ –∫–æ—Å—Ç—é–º—ã, –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑–µ–Ω–Ω—ã–µ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞–±–∞–Ω–¥–Ω—ã–º –ø—É—Ç–µ–º –∫–Ω–∏–≥–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è, –∫–∞—Ä—Ç—ã —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã—Ö —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–π, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä—ã –±—ã–ª–∏ –≤–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω—ã, –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª—è–ª–∏—Å—å —Ñ–∞–ª—å—à–∏–≤—ã–µ –ø–∞—Å–ø–æ—Ä—Ç–∞ –∏ –ø–µ—á–∞—Ç–∏ –≤–æ–ª–æ—Å—Ç–µ–π, –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –æ–±—É—á–µ–Ω–∏–µ —á–ª–µ–Ω–æ–≤ –∫–æ–º–º—É–Ω—ã —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–º —Ç–∞–π–Ω—ã–º —à–∏—Ñ—Ä–∞–º –∏ —Ä–µ—Ü–µ–ø—Ç–∞–º –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Å–∏–º–ø–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —á–µ—Ä–Ω–∏–ª, –∫–∞–∂–¥—É—é —Å—É–±–±–æ—Ç—É –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –∏ –ª–µ–∫—Ü–∏–∏.
–í 1974 –≥., –∫–∞–∫ –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–∏–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä—ã-–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∏, –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –ø–æ–¥ –∏–º–µ–Ω–µ–º —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∫–∏ –§–µ–∫–ª—ã –ö–æ—Å–æ–π —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∞ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥». «–û–¥–µ–ª–∞—Å—å —è –≤ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫—É—é –æ–¥–µ–∂–¥—É, –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞ –∫–æ—Ç–æ–º–∫—É, –ø–∞–ª–∫—É –∏ –ø–æ—à–ª–∞ –±—Ä–æ–¥–∏—Ç—å», - –ø–æ–∑–∂–µ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. –Ý–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ-–Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –ª—é–¥–∏ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é, –ø—ã—Ç–∞—è—Å—å –≤–µ—Å—Ç–∏ –∞–Ω—Ç–∏–º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏—á–µ—Å–∫—É—é –∞–≥–∏—Ç–∞—Ü–∏—é —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—è –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å –∏—Ö –Ω–∞ –±–æ—Ä—å–±—É —Å —Ü–∞—Ä–∏–∑–º–æ–º. –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞–º–∏ –∞–≥–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –≤ —Å–µ–ª—å—Å–∫–∏–µ —É–µ–∑–¥—ã –ö–∏–µ–≤—Å–∫–æ–π, –•–µ—Ä—Å–æ–Ω—Å–∫–æ–π –∏ –ü–æ–¥–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–π.
–û–¥–∏–Ω –∏–∑ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–æ–≤ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –º–µ–Ω—å—à–µ–≤–∏–∫ –ü–∞–≤–µ–ª –ê–∫—Å–µ–ª—å—Ä–æ–¥, –ø–∏—Å–∞–ª –æ –Ω–µ–π: «–ë—ã–ª–æ –≤ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π —á—Ç–æ-—Ç–æ –∏—Å–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ, —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –µ–π –æ–¥–Ω–æ–π, —á—Ç–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–æ –º–µ–Ω—è – –¥–∞ –Ω–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º–µ–Ω—è – –ø—Ä–µ–∫–ª–æ–Ω—è—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–µ–π. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ –∫–∞–∫–∏–µ-–Ω–∏–±—É–¥—å –Ω–æ–≤—ã–µ –∏–¥–µ–∏, –Ω–µ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç—ã, –∞ –µ–µ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è, –∂–∏–≤–∞—è, —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω–∞—è –ª—é–±–æ–≤—å –∫ –Ω–∞—Ä–æ–¥—É. –õ—é–±–æ–≤—å, –≤—Å–µ–ø–æ–≥–ª–æ—â–∞—é—â–∞—è, –±–µ–∑–º–µ—Ä–Ω–∞—è –ª—é–±–æ–≤—å, –±—ã–ª–∞ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–µ–º –≤—Å–µ–π –µ–µ –∂–∏–∑–Ω–∏. –û–Ω–∞ —É–º–µ–ª–∞ –ª—é–±–∏—Ç—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –∏–∑ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞, –Ω–æ –∏ –≤–µ—Å—å –Ω–∞—Ä–æ–¥, –∫–∞–∫ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤».
–õ—é–±—è –Ω–∞—Ä–æ–¥, –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –±–µ–∑–∂–∞–ª–æ—Å—Ç–Ω–æ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –∫ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫ –µ–≥–æ –≤—Ä–∞–≥–∞–º. –í –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –ø—Ä–æ–∫–ª–∞–º–∞—Ü–∏–µ–π, –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è, –∞–ø–µ–ª–ª–∏—Ä—É—è –∫ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, –ø–∏—Å–∞–ª–∞: «...–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∞ –ë–æ–≥—É —Ç–∞–∫–∞—è –≥–ª—É–ø–∞—è –ø–æ–∫–æ—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –û–Ω —Å–≤–æ–µ–º—É –Ω–∞—Ä–æ–¥—É –≤–∑—è—Ç—å—Å—è –∑–∞ —Ä–∞–∑—É–º... –≥—Ä—è–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ –≤—Ä–∞–≥–æ–≤ —Å–≤–æ–∏—Ö» –∏ –±–∏—Ç—å—Å—è «–¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –∏—Å—Ç—Ä–µ–±—è—Ç –≤—Å–µ—Ö, –¥–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç—Å—è –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ —Ç—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–¥–Ω–∏ —É–≥–æ–¥–Ω—ã –ë–æ–≥—É», «–ø—Ä–∏–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –ì–æ—Å–ø–æ–¥—å –Ω–∞—Ä–æ–¥—É —Å–≤–æ–µ–º—É –Ω–∞–ø–∞—Å—Ç—å –Ω–∞ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –∏ –∂–∏–ª–∏—â–∞ –∫—É–ø—Ü–æ–≤, –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤ –∏ –∂–∏–¥–æ–≤ –∏ —Ä–∞–∑–æ—Ä—è—Ç—å –∏—Ö –¥–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –ø–æ–≥–∞–Ω—ã—Ö –∂–µ –∑–ª–æ–¥–µ–µ–≤ –≤–µ—à–∞—Ç—å –∏ —Ä–µ–∑–∞—Ç—å, –∞ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ –∏—Ö –Ω–∞–≥—Ä–∞–±–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–∏—Ç—å –ø–æ—Ä–æ–≤–Ω—É –º–µ–∂–¥—É —Å–æ–±–æ—é. –¢–æ–≥–¥–∞ –ª—é–¥–∏ –±—É–¥—É—Ç –∂–∏—Ç—å –º–∏—Ä–Ω–æ –∏ –¥—Ä—É–∂–Ω–æ ...–∏ —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –±—É–¥–µ—Ç –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ». –ó–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –∂–µ –ø—Ä–æ–∫–ª–∞–º–∞—Ü–∏—è —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–æ–º: «–±–µ–π—Ç–µ—Å—å —Å –Ω–∏–º–∏ –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ –Ω–∏ –µ–¥–∏–Ω–æ–≥–æ –Ω–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö... –ê–º–∏–Ω—å».
–¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —Å —Å–∞–º–æ–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥» –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è, –≤ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è, —Ü–µ–ª–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ä–∞–∑–º—ã—Ç—ã–º–∏ –∏ –Ω–µ–æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏, –±—ã–ª–∞ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –¥–æ—Å—Ç–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞. –û–Ω–∞ –ø–∏—à–µ—Ç: «–ª–æ–∑—É–Ω–≥ «–≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥» –±—ã–ª –æ–±—â–∏–π, –Ω–æ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ —à–ª–æ –≤ —Ü–µ–ª—è—Ö –æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–ª–µ–Ω–∏—è —Å —á—É–∂–¥–æ–π —Å—Ä–µ–¥–æ–π, –∏ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∫–∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª ...–º–æ–µ–π —Ü–µ–ª—å—é –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ —Å–∏–ª –∏–∑ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ –∫ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—â–µ–π –±–æ—Ä—å–±–µ. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ —è –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ —Å–µ–±—è –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ù–µ—Ç —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–µ–π. –ù–µ–ª–µ–≥–∞–ª—å–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ, —Ñ–∞–ª—å—à–∏–≤—ã–π –ø–∞—Å–ø–æ—Ä—Ç... – —ç—Ç–æ —Ñ–∞–∫—Ç—ã, –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞—é—â–∏–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –æ—Ç –≤—Å–µ—Ö –ø—É—Ç –º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–ª–∞. –ü–æ–∫–∞ –Ω–µ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–ª–∏, –ª–µ—Ç–∞–π –≤–æ–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ç–∏—Ü–µ–π, –¥–∞–≤–∞–π –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä –º—ã—Å–ª–∏ –∏ —Å–ª–æ–≤—É».
–û–¥–Ω–∞–∫–æ «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥» –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –º–∞–ª–æ—ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–º. –ö—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –Ω–µ –¥–æ–≤–µ—Ä—è–ª–∏ —á—É–∂–∞–∫–∞–º, –ø—Ä–∏—à–µ–¥—à–∏–º –∏–∑ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å –∏—Ö –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ü–∞—Ä—è, –∏ –Ω–µ—Ä–µ–¥–∫–æ —Å–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –∞–≥–∏—Ç–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –≤–ª–∞—Å—Ç—è–º. «–ú—ã —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏—Ç—å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º, – –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è, – —á—Ç–æ —Ü–∞—Ä—å –∑–∞–æ–¥–Ω–æ —Å –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–∞–º–∏ –∏ —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–∞–º–∏, —á—Ç–æ –æ–Ω —Ç–æ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –∏ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º —É–≥–Ω–µ—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞. –ù–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ —ç—Ç–æ–º—É –≤–µ—Ä–∏—Ç—å. <…> –ö—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –≤–µ—Ä–∏–ª–∏ —Ü–∞—Ä—é, –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω—ã, —á—Ç–æ —Ü–∞—Ä—å - —ç—Ç–æ –¥–æ–±—Ä—ã–π —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –≤—Å–µ–π –∑–µ–º–ª–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç –≤–æ–π—Å–∫–æ –¥–ª—è –∑–∞—â–∏—Ç—ã –æ—Ç –≤—Ä–∞–≥–æ–≤, –∞ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –æ–±—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –∑–µ–º–ª—é, –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –µ–º—É –ø–æ–¥–∞—Ç–∏ –Ω–∞ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞. –û–Ω–∏ –¥—É–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Ü–∞—Ä—å –ª—é–±–∏—Ç —Å–≤–æ–π –Ω–∞—Ä–æ–¥ –∏ –∑–∞–±–æ—Ç–∏—Ç—Å—è –æ –Ω–µ–º, –∞ –µ—Å–ª–∏ –ø–æ—Ä–æ–π —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫ –ø—Ä–∏—Ç–µ—Å–Ω—è–µ—Ç –Ω–∞—Ä–æ–¥, —Ç–∞–∫ —ç—Ç–æ –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω —Ü–∞—Ä—è –æ–±–º–∞–Ω—É–ª».
–ö—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –Ω–µ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ «—Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö», –ø–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É –∞–Ω–∞—Ä—Ö–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö, –∏–¥–µ–π –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤. –í —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö —Ä–µ–ø—Ä–µ—Å—Å–∏–π –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∏ –∫ –Ω–∞—á–∞–ª—É 1880-—Ö –≥. –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–ª–∏ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç—å –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –±–æ—Ä—å–±—ã, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ —Å–≤–µ–ª–∏ –µ—ë –∫ –µ–¥–∏–Ω–æ–±–æ—Ä—Å—Ç–≤—É —Å —Ü–∞—Ä–∏–∑–º–æ–º, –∫ –∏–Ω–¥–∏–≤–∏–¥—É–∞–ª—å–Ω–æ–º—É —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä—É. –í –∏—Ç–æ–≥–µ «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥» –ø—Ä–æ–≤–∞–ª–∏–ª–æ—Å—å, –∏ –±–æ–ª—å—à–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –µ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª–∞ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω–∞ –≤–ª–∞—Å—Ç—è–º–∏. –°—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∞ –∏ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è.
–° –∫–æ–Ω—Ü–∞ 1874 –≥–æ–¥–∞ –¥–ª—è 30-–ª–µ—Ç–Ω–µ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫–∏ –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ —Ç—é—Ä–µ–º–Ω—ã—Ö –º—ã—Ç–∞—Ä—Å—Ç–≤. –û–Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã—Ö —Ç—é—Ä—å–º–∞—Ö – –ë—Ä–∞—Ü–ª–∞–≤—Å–∫–æ–π, –ì–∞–π—Å–∏–Ω—Å–∫–æ–π –∏ –ö–∏–µ–≤—Å–∫–æ–π. –í 1876 –≥–æ–¥—É –µ–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—è—Ç –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫—É—é –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç—å, –≥–¥–µ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ–±—ã–ª–∞ –¥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≥—Ä–æ–º–∫–æ–≥–æ —Å—É–¥–µ–±–Ω–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤-–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ (1877‚Äí1878) – «–ü—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–∞ 193-—Ö».
–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫—É—é, –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ –∑–∞—è–≤–∏–≤—à—É—é –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–∞, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç —á–µ—Å—Ç—å—é –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—Ç—å –∫ «—Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π», —Å—É–¥ –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –∫ –ø—è—Ç–∏ –≥–æ–¥–∞–º –∫–∞—Ç–æ—Ä–≥–∏ —Å –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–π —Å—Å—ã–ª–∫–æ–π. –í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Å—Ç–∞–ª–∞ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö –≤ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω-–ø–æ–ª–∏—Ç–∫–∞—Ç–æ—Ä–∂–∞–Ω–æ–∫.
«–•–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥», –∞—Ä–µ—Å—Ç, —Å—É–¥ –∏ –ø—è—Ç—å –ª–µ—Ç –∫–∞—Ç–æ—Ä–∂–Ω—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç; –≤—ã—Ö–æ–¥ –Ω–∞ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ–±–µ–≥, –Ω–æ–≤—ã–π –∞—Ä–µ—Å—Ç, –Ω–æ–≤—ã–π —Å—É–¥ –∏ –æ–ø—è—Ç—å —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –≥–æ–¥–∞ –∫–∞—Ç–æ—Ä–∂–Ω—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç. –ü–æ—Å–ª–µ –∫–∞—Ç–æ—Ä–≥–∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–∞ —Å—Å—ã–ª–∫–∞ – –±—ã–≤—à—É—é –¥–≤–æ—Ä—è–Ω–∫—É –ø—Ä–∏–ø–∏—Å–∞–ª–∏ –∫ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–º—É —Å–æ—Å–ª–æ–≤–∏—é –∏ –≤ 1891 –≥–æ–¥—É –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –µ–π –ø—Ä–∞–≤–æ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –°–∏–±–∏—Ä–∏. –¢–∞–∫–æ–≤ –±—ã–ª –∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –ø—É—Ç—å –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π.
–û—Ç–±—ã–≤ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∫–∞—Ç–æ—Ä–∂–Ω—ã–π —Å—Ä–æ–∫, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –≤—ã—à–ª–∞ –Ω–∞ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –≤ –°–µ–ª–µ–Ω–≥–∏–Ω–µ, –≥–¥–µ –ø–æ—Å–µ—â–µ–Ω–∏–µ –µ–µ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏–º –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–º –î–∂–æ—Ä–∂–µ–º –ö–µ–Ω–Ω–∞–Ω–æ–º –≤—ã–∑–≤–∞–ª–æ –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–º –¥—É—Ö–æ–≤–Ω—ã–π –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç. –û–Ω –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é –¥–ª—è –æ–±—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å—Å—ã–ª–∫–∏, —Å–∫–ª–æ–Ω–Ω—ã–π –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞—Ç—å —Ü–∞—Ä—Å–∫—É—é –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏—é, –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω–Ω—É—é –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è—Ç—å —Ä–µ–ø—Ä–µ—Å—Å–∏–∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤. –ü–æ—Å–ª–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ —Å –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –∏ —Å–æ –º–Ω–æ–≥–∏–º–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ —Å—Å—ã–ª—å–Ω—ã–º–∏ –æ–Ω –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –∫–Ω–∏–≥—É «–°–∏–±–∏—Ä—å –∏ —Å—Å—ã–ª–∫–∞», –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤—Å–µ–º—É –º–∏—Ä—É –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞ —É–∂–∞—Å—ã –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—ã –±–æ—Ä—Ü–æ–≤ –∑–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥—É. –í –∫–Ω–∏–≥–µ –ö–µ–Ω–Ω–∞–Ω –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏—Ç —Å–ª–æ–≤–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–Ω—ã–µ –∫ –Ω–µ–º—É, –∏ —Å–≤–æ–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –Ω–∏—Ö: «–ú–∏—Å—Ç–µ—Ä –ö–µ–Ω–Ω–∞–Ω, ...–º—ã –º–æ–∂–µ–º —É–º–µ—Ä–µ—Ç—å –≤ —Å—Å—ã–ª–∫–µ; –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ –º–æ–≥—É—Ç —É–º–µ—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞—à–∏ –¥–µ—Ç–∏ –∏ –¥–µ—Ç–∏ –Ω–∞—à–∏—Ö –¥–µ—Ç–µ–π, –Ω–æ —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –≤—ã–π–¥–µ—Ç –∏–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ! ... –° —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª –∏ –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª –±–æ–ª–µ–µ –≥–æ—Å–ø–æ–∂–∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π; –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –∫–∞–∫ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–∞—è —Ç–µ–Ω—å –≤ –º–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏; –Ω–æ –≤—Å—è–∫–∏–π —Ä–∞–∑, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é –µ–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞, —è —Å–Ω–æ–≤–∞ –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é –¥–æ –∫–∞–∫–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç–æ –º–æ–µ –º–µ—Ä–∏–ª–æ –º—É–∂–µ—Å—Ç–≤–∞, —Å–∏–ª—ã –∏ –≥–µ—Ä–æ–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å–∞–º–æ–æ—Ç–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ - –∏ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç–æ —Ä—É–∫–æ—é —ç—Ç–æ–π –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã».
–ö–Ω–∏–≥–∞ –î–∂–æ—Ä–∂–∞ –ö–µ–Ω–Ω–æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–¥–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –≤—Å–µ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏–µ —è–∑—ã–∫–∏ –∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –º–Ω–µ–Ω–∏–µ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∏ –∏ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã. –ë–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è —ç—Ç–æ–π –∫–Ω–∏–≥–µ —à–∏—Ä–æ–∫–æ –ø—Ä–æ–≥—Ä–µ–º–µ–ª–æ –∏ –∏–º—è –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π.
–ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –Ω–µ—É–¥–∞—á—É «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥», –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –Ω–µ —Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∏ –≤ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤–µ, –Ω–∏ –≤ –≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –µ—é —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏ – –ø–æ–ª–Ω–æ–µ –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –ø–æ–ø—Ä–∏—â–µ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–∏—Ä–Ω–æ–π –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ª–∏—à—å –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–æ –µ–µ –∫ –≤—ã–±–æ—Ä—É –±–æ–ª–µ–µ —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Ñ–æ—Ä–º –±–æ—Ä—å–±—ã —Å —Å–∞–º–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∏–µ–º
–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è – –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä –∏ –∏–¥–µ–æ–ª–æ–≥ –ü–∞—Ä—Ç–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤
–í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –∏–∑ —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–µ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ª–∏—à—å –≤ 1896 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∞–º–Ω–∏—Å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∞ –≤ —Å–≤—è–∑–∏ —Å –∫–æ—Ä–æ–Ω–∞—Ü–∏–µ–π –ò–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è II. –ö–∞—Ç–æ—Ä–≥–∞ –∏ —Å—Å—ã–ª–∫–∞ –Ω–µ –∏—Å–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫—É, –∏ –æ–Ω–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –∫ –∞–Ω—Ç–∏–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–æ –≤ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–º –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–∏ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –Ω–æ–≤–∞—è —ç–ø–æ—Ö–∞, –Ω–æ–≤–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è, –Ω–æ–≤—ã–µ –ª—é–¥–∏, –Ω–æ–≤—ã–µ —Ä–µ—á–∏. –ú–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å –ø–æ—á—Ç–∏ —Å–ø–ª–æ—à—å –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –Ω–∞ –Ω–æ–≤–æ–º —è–∑—ã–∫–µ – –Ω–∞ —è–∑—ã–∫–µ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–≥–æ –º–∞—Ä–∫—Å–∏–∑–º–∞, –ø–æ—Å–ø–µ—à–Ω–æ –∏ –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –ª–∞–¥–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π. –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö – –∫–∞–∫ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ—Ü –∏–∑ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ, –ø–æ—Ç–æ–Ω—É–≤—à–µ–≥–æ –º–∏—Ä–∞.
–ù–æ –µ–π –≤–µ–¥–æ–º–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–µ–µ, —á–µ–º —Ç–µ–∑–∏—Å—ã –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –¥–æ–∫—Ç—Ä–∏–Ω—ã, –ø—Ä–µ—Ç–µ–Ω–¥—É—é—â–µ–π –Ω–∞ –±–µ–∑–æ—à–∏–±–æ—á–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–∏–∞–≥–Ω–æ–∑–æ–≤ –∏ –ø—Ä–æ–≥–Ω–æ–∑–æ–≤. –ò, –Ω–µ —Å–º—É—â–∞—è—Å—å –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–º–∏ —Å –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å—é, –Ω–µ –¥–∞—é—â–∏–º–∏ –≤–∑–∞–∏–º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è, –æ–Ω–∞ —Å–ø–µ—à–∏—Ç –Ω–∞–≤–µ—Ä—Å—Ç–∞—Ç—å –≥–æ–¥—ã –ø–æ–¥–Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –±–µ–∑–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è. «–®–µ—Å—Ç—å –ª–µ—Ç –≤–∞–≥–æ–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –º–Ω–µ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–æ–π, – —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –æ–Ω–∞. – –Ø —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∞ –ª—é–¥–µ–π –≤—Å—é–¥—É, –≥–¥–µ –º–æ–≥–ª–∞: –≤ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö –∏–∑–±–∞—Ö, –≤ –º–∞–Ω—Å–∞—Ä–¥–∞—Ö —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–æ–∫, –≤ –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≥–æ—Å—Ç–∏–Ω—ã—Ö, –≤ —Ä–µ—á–Ω—ã—Ö –±–∞—Ä–∫–∞—Ö, –≤ –ª–µ—Å–∞—Ö, –Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö –º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∞—Ö».
«–ó–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É —à–ª–∏ –≤–µ—Å—Ç–∏, – –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç –ª–∏–¥–µ—Ä –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤ –í. –ú. –ß–µ—Ä–Ω–æ–≤, – «–±–∞–±—É—à–∫–∞» –≤–∏—Ç–∞–µ—Ç –ø–æ –≤—Å–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –∫–∞–∫ —Å–≤—è—Ç–æ–π –¥—É—Ö —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, –∑–æ–≤–µ—Ç –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å –∫ —Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏—é –Ω–∞—Ä–æ–¥—É, –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –∏ —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö – –∫ –±–æ—Ä—å–±–µ –∑–∞ —Å–≤–æ–∏ —Ç—Ä—É–¥–æ–≤—ã–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—ã, –≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω–æ–≤ –ø—Ä–æ—à–ª—ã—Ö –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–π – –∫ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç—É –Ω–∞ —Ç–µ—Ä–Ω–∏—Å—Ç—ã–π –ø—É—Ç—å —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏. "–°—Ç—ã–¥–∏—Å—å, —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫, – –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –æ–Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–º—É –∏–∑ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è, –≤–µ–¥—å —ç–¥–∞–∫ —Ç—ã —É–º—Ä–µ—à—å —Å–æ —Å—Ä–∞–º–æ–º, – –Ω–µ –∫–∞–∫ –±–æ—Ä–µ—Ü, –∞ –Ω–∞ –º—è–≥–∫–æ–π –ø–æ—Å—Ç–µ–ª–∏ –ø–æ–¥–æ—Ö–Ω–µ—à—å, –∫–∞–∫ –∏–∑–Ω–µ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π —Ç—Ä—É—Å, –ø–æ–¥–ª–æ–π —Å–æ–±–∞—á—å–µ–π —Å–º–µ—Ä—Ç—å—é».
–í–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –æ–∫–æ–ª–æ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ, –≥–¥–µ –æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª–∞—Å—å —Å –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏—è–º–∏ –≤ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ, –≤ —Ü–µ–ª–æ–º —Ä–µ–∑–∫–æ –∫—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤—É –∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Ü–∞–º. –û —Å–≤–æ–µ–π –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ —Å –Ω–æ–≤—ã–º –¥–ª—è –Ω–µ–µ –º–∞—Ä–∫—Å–∏–∑–º–æ–º –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –Ω–∞–ø–∏—à–µ—Ç: «–í —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ 1896 –≥–æ–¥–∞ –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ —è –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é –≤ –¥–µ–Ω—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º. –ù–æ —Ç—É—Ç –∂–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∞, –∫—Ä–æ–º–µ —Å–≤–æ–µ–≥–æ, –∏ –¥—Ä—É–≥–æ–µ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ, –∂–∞–¥–Ω–æ –∑–∞–≤–æ–µ–≤—ã–≤–∞–≤—à–µ–µ —Å–µ–±–µ –º–µ—Å—Ç–æ – –º–∞—Ä–∫—Å–∏—Å—Ç–æ–≤. –ú–∞—Ä–∫—Å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–ª –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å, –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–æ–≤ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –æ—Ç–∂–∏–≤—à—É—é —Å–∏–ª—É. –ú–Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ —Ç–æ–≥–¥–∞: «–ó–∞—á–µ–º –∏–¥–µ—à—å –∫ –º—É–∂–∏–∫–∞–º? –û–Ω–∏ –≤–µ–¥—å –≥–ª—É–ø—ã –∏ –º–æ–ª—á–∞—Ç. –í–æ—Ç —Ä–∞–±–æ—á–∏–µ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ – –æ–Ω–∏ –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ–¥–¥–∞—é—Ç—Å—è –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–µ».
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –Ω–∞ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –±—ã–ª–∞, –ø–æ –µ–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏—é, «–µ–¥–≤–∞ –∑–Ω–∞–∫–æ–º–∞ —Å —É—á–µ–Ω–∏–µ–º, –æ–±–µ—â–∞–≤—à–∏–º –Ω–µ–∏–∑–±–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –ø—Ä–∏ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–π –Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ñ–∞–±—Ä–∏–∫ –∏ –∑–∞–≤–æ–¥–æ–≤ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏». –û–Ω–∞ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–µ—Ç —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞–º –∏–¥–µ–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏—é –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –∏ –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –≤–µ—Ä–Ω–æ–π —Å–≤–æ–∏–º –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∞–º. –í—Å–µ–≥–¥–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–≤—à–∞—è, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ —Å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏ –∏ –≤–∏–¥–µ–≤—à–∞—è –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –æ–±—â–∏–Ω–µ –æ—Å–Ω–æ–≤—É —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∏ –±—É–¥—É—â–µ–π —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∏, –æ–Ω–∞ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∞ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–∏—Ç—å —Ä–∞–≤–Ω–æ–¥—É—à–∏—è –º–∞—Ä–∫—Å–∏—Å—Ç–æ–≤ –∫ –∞–≥—Ä–∞—Ä–Ω–æ–º—É –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—É –∏ —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, –∏—Ö –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –æ —Ä–æ–ª–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –≤ –±—É–¥—É—â–µ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏.
–ú–∞—Ä–∫—Å–∏—Å—Ç—ã –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ —Ç—Ä—É–¥–æ–≤–æ–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤–æ, –∫–∞–∫ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤, –∫ —Ä–∞–∑—Ä—è–¥—É –º–µ–ª–∫–æ–π –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–∏–∏, –ø–æ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ —á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, –≤ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞—Ä–∏–∞—Ç–∞, –∫–ª–∞—Å—Å–æ–º, —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–º –∫ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—é —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∏–¥–µ–π. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –∂–µ –µ—â–µ —Å —é–Ω–æ—Å—Ç–∏ –±—ã–ª–∞ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–∞, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏–µ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –Ω–∞—á–∞—Ç—å—Å—è –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ, –∏ –º–µ—á—Ç–∞–ª–∞ –æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ —Ç–∞–∫–æ–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ç–µ–æ—Ä–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —É—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª–∞ –±—ã –æ—Å–æ–±—ã–µ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è –∞–≥—Ä–∞—Ä–Ω—ã—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω —Å –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞—é—â–∏–º –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–º –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º.
–ü–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ —è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è —Å–∞–º—ã–º –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –∏ —É–≥–Ω–µ—Ç–µ–Ω–Ω—ã–º —Ç—Ä—É–¥–æ–≤—ã–º –∫–ª–∞—Å—Å–æ–º, –∏, —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã—Ç—å –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–∏–º—á–∏–≤—ã –∫ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –∏–¥–µ—è–º. «–ë—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –º—É–∂–∏–∫–∞? –ù–µ—Ç, —è –º—É–∂–∏–∫–∞ –Ω–µ –±—Ä–æ—à—É. –Ø –≤ –º—É–∂–∏–∫–∞ –≤–µ—Ä—é. –Ø –µ–º—É –æ—Ç–∫—Ä–æ—é –≥–ª–∞–∑–∞, –Ω–∞—É—á—É –µ–≥–æ –±–æ—Ä–æ—Ç—å—Å—è –∑–∞ –ø—Ä–∞–≤–¥—É. –Ý–∞–±–æ—á–∏–µ –≤–µ–¥—å –∏–∑ —Ç–µ—Ö –∂–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ —Ç–æ–∂–µ —É–º–Ω—ã–µ».
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∞ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞ –∂–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –∏ –Ω–µ —Å–Ω–∏–º–∞–ª–∞ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—É, –∂–∏–≤—è —É –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥—Ä—É–∑–µ–π –∏ —Å–æ—Ä–∞—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –ø–æ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ –∏ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–∂–∞—è. –í—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∞ –Ω–∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–æ–≤–∞, –Ω–∏ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–∞, –Ω–∏ –¥–∞–∂–µ –æ–¥–µ–∂–¥—ã, –≥–æ–≤–æ—Ä—è – «–Ω–µ —Ç–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ, —á–µ–≥–æ –ª—é–¥–∏ –±–æ—è—Ç—Å—è: –±–µ–¥–Ω–æ—Å—Ç—å, –ø—Ä–µ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è, —Ç—é—Ä—å–º–∞, –∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –∏—Ö –Ω–µ –ø—É–≥–∞–µ—Ç – –æ–±—ã–≤–∞—Ç–µ–ª—å—â–∏–Ω–∞, –∂–∏–∑–Ω—å –¥–ª—è —Å–µ–±—è».
–Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–æ 1897 –≥–æ–¥–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∞ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –≤ —Ä–æ–¥–Ω–æ–º –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, –∫—É–¥–∞ —á—Ç–æ–±—ã —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –µ–µ –ø–æ—Å–ª–µ –º–Ω–æ–≥–æ–ª–µ—Ç–Ω–µ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ—Ä—ã–≤–∞ —Å—ä–µ—Ö–∞–ª–∞—Å—å –≤—Å—è –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–æ–¥–Ω—è. –Ý–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π —É–∂–µ —É–º–µ—Ä–ª–∏, —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –¥–æ–∂–¥–∞–≤—à–∏—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ —Å –¥–æ—á–µ—Ä—å—é, –∞ –∏–º–µ–Ω–∏–µ–º –≤–ª–∞–¥–µ–ª –±—Ä–∞—Ç –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π. –í —ç—Ç–æ—Ç –∂–µ –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∞ –µ–µ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ —Å –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏—Ç—Ä–µ—Ö–ª–µ—Ç–Ω–∏–º —Å—ã–Ω–æ–º, –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–∞—è –≤—ã—à–µ.
–ü–µ—Ä–∏–æ–¥ —Å 1896 –ø–æ 1903 –≥–æ–¥—ã —Å—Ç–∞–ª —Ä–µ—à–∞—é—â–∏–º –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ – –æ–Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤, –ø—Ä–∏–Ω—è–≤ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –∏ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–ª–∞—Ç—Ñ–æ—Ä–º—ã –Ω–æ–≤–æ–π –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏.
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –±—ã–ª–∞ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–∞ –≤ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—è –Ω–æ–≤–æ–π –µ–¥–∏–Ω–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è, –æ–ø–∏—Ä–∞—è—Å—å –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Ü–µ–≤, –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–ø–ª–æ—Ç–∏—Ç—å –Ω–æ–≤—É—é –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å –∏ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤ —Å —à–∏—Ä–æ–∫–∏–º–∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –º–∞—Å—Å–∞–º–∏, —á—Ç–æ–±—ã –≤–º–µ—Å—Ç–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ—è—Ç—å –≤–ª–∏—è–Ω–∏—é –º–∞—Ä–∫—Å–∏–∑–º–∞. –ù–∞ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—é –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ –∏ —É—à–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≥–æ–¥—ã –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.
–ü–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–≤—à–∏—Å—å —Å –ì.–ê. –ì–µ—Ä—à—É–Ω–∏, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —Å—Ç–∞–ª–∞ –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤ –ü–∞—Ä—Ç–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤ (—ç—Å–µ—Ä–æ–≤). –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –∑–∞—è–≤–∏–ª–∞ —Å–µ–±—è —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–∏—Ü–µ–π –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –∞–≥—Ä–∞—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Ç–æ–¥–∞ –±–æ—Ä—å–±—ã —Å —Ü–∞—Ä–∏–∑–º–æ–º –∏ –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞ —Å–∞–º—É—é –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—É—é –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫—É –ì.–ê. –ì–µ—Ä—à—É–Ω–∏ –≤ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –ë–æ–µ–≤–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤, —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–≤—à–µ–π –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —Ä—è–¥ –≥—Ä–æ–º–∫–∏—Ö –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —É–±–∏–π—Å—Ç–≤.
–ó–∞–Ω–∏–º–∞—è –≤ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ –ª–µ–≤—É—é –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—é, –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –Ω–µ –¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –∏–∑–±–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∞ –∏ –∂–µ–ª–∞–ª–∞ –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ —Ä–∞—Å—à–∏—Ä–∏—Ç—å –µ–≥–æ, –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–≤ –≤ –º–∞—Å—Å–æ–≤—ã–π. –¢—Ä–µ–±—É—è –æ—Ç —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤ «–ª–∏—á–Ω–æ–π –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤—ã», –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—É—é –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å: «–ò–¥–∏ –∏ –¥–µ—Ä–∑–∞–π, –Ω–µ –∂–¥–∏ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π —É–∫–∞–∑–∫–∏, –ø–æ–∂–µ—Ä—Ç–≤—É–π —Å–æ–±–æ–π –∏ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂—å –≤—Ä–∞–≥–∞!». –ù–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–≤ –≤ —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∞–∫—Ç–∞ –ª–∏—á–Ω–æ, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –≤–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–∏–ª–∞ –Ω–∞ –∏—Ö —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏–µ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–∞ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –¥–ª—è –¥–æ—Å—Ç–∏–∂–µ–Ω–∏—è –±–ª–∞–≥–∏—Ö —Ü–µ–ª–µ–π –ª—é–±—ã–µ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏, –∏ «—Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–∞–ª–∞—Å—å —á—É–∂–∏–º–∏ –∂–∏–∑–Ω—è–º–∏ —Å –ª–µ–≥–∫–æ—Å—Ç—å—é –∏ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ—Å—Ç—å—é».
–í 1903 –≥–æ–¥—É –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞, –æ–ø–∞—Å–∞—è—Å—å –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–≥–æ –∞—Ä–µ—Å—Ç–∞, –ø–µ—Ä–µ–±—Ä–∞–ª–∞—Å—å –≤ –®–≤–µ–π—Ü–∞—Ä–∏—é. –ù–∞—Ö–æ–¥—è—Å—å –≤ —ç–º–∏–≥—Ä–∞—Ü–∏–∏, –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—É—é –±–æ—Ä—å–±—É, –≤–æ–π–¥—è –≤ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—è—â–∏–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω—ã —ç—Å–µ—Ä–æ–≤, –≤–∫–ª—é—á–∏–ª–∞—Å—å –≤ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É –ø–∞—Ä—Ç–∏–π–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç–æ–≤, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∞ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –¥–ª—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤. –í—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—è—Å—å —Å —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º–∏ –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª–∞–º–∏, –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è, –∫–∞–∫ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–∏–π –ª–∏–¥–µ—Ä –∫–Ω—è–∑—å –ü–µ—Ç—Ä –î–æ–ª–≥–æ—Ä—É–∫–æ–≤, «–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞, —á—Ç–æ –º—ã, –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—ã, –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –∫ –±–æ–ª–µ–µ —Ä–µ—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è–º», –∏ –µ—Å–ª–∏ «–º—ã —Å–∞–º–∏ –Ω–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä, —Ç–æ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã, –ø–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –º–µ—Ä–µ, —Å–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∏—Å—Ç–∞–º».
–ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –∞–≥–∏—Ç–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö –≤—Å—Ç—Ä–µ—á —Å –ø–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ —á–ª–µ–Ω–∞–º–∏ –Ω–æ–≤–æ–π –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ –±—ã–ª –∑–∞–¥–∞–Ω –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–∏ –±—É–¥—É—â–µ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞: «–ü—Ä–∏–∑–Ω–∞–µ—Ç–µ –≤—ã —Å–µ–±—è —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∞–º–∏? –ü—Ä–∏–∑–Ω–∞–µ–º. –ê —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∞–º–∏? –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–µ–º. –¢–∞–∫ –∏ –Ω–∞–∑–æ–≤–∏—Ç–µ—Å—å —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä—ã». –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–Ω–æ –µ—é –µ—â–µ –≤ 1878 –≥–æ–¥—É –Ω–∞ «–ü—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ 193-—Ö», –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å —Å—É–¥–µ–π: –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–µ—Ç –ª–∏ –æ–Ω–∞ —Å–µ–±—è –≤–∏–Ω–æ–≤–Ω–æ–π, –∑–∞—è–≤–∏–ª–∞, —á—Ç–æ «–∏–º–µ–µ—Ç —á–µ—Å—Ç—å –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—Ç—å –∫ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∞–º-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∞–º».
–ü–∞—Ä—Ç–∏—è —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤-—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤ (—ç—Å–µ—Ä–æ–≤) –±—ã–ª–∞ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –≤ 1906 –≥. –Ω–∞ –±–∞–∑–µ —Ä–∞–Ω–µ–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤—à–∏—Ö –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–π –∏ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∞ –æ–¥–Ω–æ –∏–∑ –≤–µ–¥—É—â–∏—Ö –º–µ—Å—Ç –≤ —Å–∏—Å—Ç–µ–º–µ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø–∞—Ä—Ç–∏–π. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –∏ —Å–∞–º–æ–π –≤–ª–∏—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –Ω–µ–º–∞—Ä–∫—Å–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–∞—Ä—Ç–∏–µ–π. –ï—ë —Å—É–¥—å–±–∞ –±—ã–ª–∞ –¥—Ä–∞–º–∞—Ç–∏—á–Ω–µ–π, —á–µ–º —Å—É–¥—å–±–∞ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø–∞—Ä—Ç–∏–π. –¢—Ä–∏—É–º—Ñ–æ–º –∏ —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏–µ–π –¥–ª—è —ç—Å–µ—Ä–æ–≤ —Å—Ç–∞–ª 1917 –≥–æ–¥. –í –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–π —Å—Ä–æ–∫ –ø–æ—Å–ª–µ –§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –ø–∞—Ä—Ç–∏—è –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –≤ –∫—Ä—É–ø–Ω–µ–π—à—É—é –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Å–∏–ª—É, –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∞ –ø–æ —Å–≤–æ–µ–π —á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä—É–±–µ–∂–∞, –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ–ª–∞ –≥–æ—Å–ø–æ–¥—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –≤ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –æ—Ä–≥–∞–Ω–∞—Ö —Å–∞–º–æ—É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –∏ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–π, –ø–æ–±–µ–¥–∏–ª–∞ –Ω–∞ –≤—ã–±–æ—Ä–∞—Ö –≤ –£—á—Ä–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ. –ï—ë –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª —Ä—è–¥ –∫–ª—é—á–µ–≤—ã—Ö –ø–æ—Å—Ç–æ–≤ –≤ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ.
–û—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —ç—Å–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–∞ –∑–∞–∫–ª—é—á–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ç–µ–æ—Ä–∏–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∑–µ–º–ª–µ–¥–µ–ª–∏—è. –≠—Ç–∞ —Ç–µ–æ—Ä–∏—è —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∞ –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—É—é –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å —ç—Å–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–∞ –∏ —è–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –≤–∫–ª–∞–¥–æ–º –≤ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏–µ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –º—ã—Å–ª–∏. –ò—Å—Ö–æ–¥–Ω–∞—è –∏–¥–µ—è —ç—Ç–æ–π —Ç–µ–æ—Ä–∏–∏ –∑–∞–∫–ª—é—á–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –Ω–∞—á–∞—Ç—å –ø—Ä–æ–∏–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞—Ç—å —Ä–∞–Ω—å—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ. –ü–æ—á–≤–æ–π –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ, –µ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–∞–¥–∏–µ–π, –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å—Ç–∞—Ç—å —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏—è –∑–µ–º–ª–∏.
–í–∞–∂–Ω–µ–π—à–µ–π –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—Å—ã–ª–∫–æ–π –¥–ª—è —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–∞ –∏ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –µ–≥–æ —Ñ–æ—Ä–º–æ–π —ç—Å–µ—Ä—ã —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Å–≤–æ–±–æ–¥—É –∏ –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—é. –ü–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—è –∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏—è –∑–µ–º–ª–∏ –±—ã–ª–∏ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã–º–∏ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—è–º–∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—ã-–º–∏–Ω–∏–º—É–º
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤ 1905-–º –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—è, –∫–∞–∫ –∏ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤-—ç–º–∏–≥—Ä–∞–Ω—Ç–æ–≤, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –Ω–µ–ª–µ–≥–∞–ª—å–Ω–æ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Å–∞–º–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∏—è. –£–∂–µ –Ω–∞ II —Å—ä–µ–∑–¥–µ –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–µ—Ç: «–¢–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏! 40 –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–æ–≤ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –º—Ä—É—Ç –≥–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–π —Å–º–µ—Ä—Ç—å—é, –≤ —Å–æ—Ç–Ω—è—Ö –≤–æ–ª–æ—Å—Ç–µ–π –∏—Ö —Ç–∏—Ä–∞–Ω—è—Ç, –∑–∞—Å–µ–∫–∞—é—Ç –¥–æ –∫–æ—Å—Ç–µ–π, –¥–µ—Ç–∏ –∏—Ö, –Ω–∞—à–∏ –±—É–¥—É—â–∏–µ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–µ –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –Ω–µ–≥—Ä–∞–º–æ—Ç–Ω—ã–º–∏... –ê —ç—Ç–∏ —É–∂–∞—Å—ã –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±–µ–∑–Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω—ã. –ò –≥–æ—Ä–µ –Ω–∞—Ä–æ–¥—É, –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—á–∞—é—â–µ–º—É –Ω–∞ –Ω–∏—Ö...»
–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–º –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ, –ø–æ –µ–µ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏—è–º, –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ–π—Ç–∏ –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∏ –≤—ã–¥–≤–∏–≥–∞–µ—Ç —Å–≤–æ–π –ø–ª–∞–Ω –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏ –∫ –Ω–µ–º—É, –≤–∫–ª—é—á–∞—é—â–∏–π –≤ —Å–µ–±—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø—É–Ω–∫—Ç–æ–≤. –ù–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –≤–∞–∂–Ω—ã–π —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç –ø–ª–∞–Ω –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ–º —ç—Ç–∞–ø–µ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏—è – –∏–∑–≥–Ω–∞–Ω–∏–µ –∏–∑ –≤—Å–µ—Ö –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–π —Å–ª—É–∂–∞—â–∏—Ö –∏ –∑–∞–º–µ–Ω–∞ –∏—Ö –≤—ã–±–æ—Ä–Ω—ã–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏, «–∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ –∏ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω—ã—Ö —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–π –∏ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–æ–≤ (–∂–∞–Ω–¥–∞—Ä–º–µ—Ä–∏–∏, –æ—Ö—Ä–∞–Ω—ã, —Å—ã—Å–∫–∞, —Å—Ç—Ä–∞–∂–Ω–∏–∫–æ–≤, —É—Ä—è–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –≤—ã—Å—à–µ–π –ø–æ–ª–∏—Ü–∏–∏), –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç –æ—Ä—É–∂–∏—è», –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –±–æ–µ–≤—ã—Ö –¥—Ä—É–∂–∏–Ω (—è—á–µ–µ–∫).
–í —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ 1907 –≥–æ–¥–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Å–Ω–æ–≤–∞ –±—ã–ª–∞ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω–∞. –ö–∞–∫ –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å –ø–æ–∑–∂–µ, –µ–µ –≤—ã–¥–∞–ª –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∫–µ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ë–æ–µ–≤–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤, –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ç–æ—Ä –ï.–§. –ê–∑–µ—Ñ. –ü—Ä–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–≤ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫—É –¥–≤–∞ –≥–æ–¥–∞ –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–∏, –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –µ–µ –∫ —Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–æ–π —Å—Å—ã–ª–∫–µ, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π 70-–ª–µ—Ç–Ω—è—è –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Å–±–µ–∂–∞—Ç—å. «"–ë–∞–±—É—à–∫–∞" –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –∑–∞ –≥–æ–¥ –¥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –æ–ø—è—Ç—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–ª–∞ —Ñ–∞–Ω—Ç–∞—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ø–æ–±–µ–≥ –∏–∑ —Å—Å—ã–ª–∫–∏, - –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –ß–µ—Ä–Ω–æ–≤. - –í –ø—è—Ç—å –¥–Ω–µ–π –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ–¥–µ–ª–∞–ª–∞ —Ç—ã—Å—è—á—É –≤–µ—Ä—Å—Ç, –Ω–æ –±—ã–ª–∞ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω–∞, –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª–∞ –æ–∫–æ–ª–æ –≥–æ–¥–∞ –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ, –ø–æ—Ç–æ–º –±—ã–ª–∞ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∞ –≤ –ë—É–ª—É–Ω, –≤–±–ª–∏–∑–∏ –õ–µ–¥–æ–≤–∏—Ç–æ–≥–æ –æ–∫–µ–∞–Ω–∞, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –ò—Ä–∫—É—Ç—Å–∫ –∏ –ú–∏–Ω—É—Å–∏–Ω—Å–∫ –ï–Ω–∏—Å–µ–π—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏. –¢—É—Ç –∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–ª–∞ –µ–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—è».
–¢—Ä–∏—É–º—Ñ–∞–ª—å–Ω–æ–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ –≤ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—É
–§–µ–≤—Ä–∞–ª—å 1917-–≥–æ –≤–æ–∑–Ω–µ—Å –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—É –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω—É –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫—É—é –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É —Å–ª–∞–≤—ã. –ï—â—ë –Ω–µ –≤—ã—Å–æ—Ö–ª–∞ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—å –Ω–∞ —É–∫–∞–∑–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è II –æ–± –æ—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω–∏–∏, –∫–∞–∫ –≤ –º–µ—Å—Ç–æ —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ú–∏–Ω—É—Å–∏–Ω—Å–∫, –ø–æ–ª–µ—Ç–µ–ª–∞ –∑–∞ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—å—é –ê. –§. –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –¥–µ–ø–µ—à–∞ –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ – –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç—å –∏ —Å –ø–æ—á—ë—Ç–æ–º –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥ —Å—Å—ã–ª—å–Ω—É—é –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—É –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫—É—é. –¢–µ–ª–µ–≥—Ä–∞–º–º–∞ —Å –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–æ–º –æ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ «–±–∞–±—É—à–∫–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏» –∏–∑-–ø–æ–¥ —Å—Ç—Ä–∞–∂–∏ —Å—Ç–∞–ª–∞ –≤—Ç–æ—Ä—ã–º –ø–æ —Å—á–µ—Ç—É —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –∏–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã–º –Ω–æ–≤—ã–º –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–æ–º —é—Å—Ç–∏—Ü–∏–∏ –ê.–§. –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–∏–º.
4 –º–∞—Ä—Ç–∞ –≤ –ú–∏–Ω—É—Å–∏–Ω—Å–∫–µ –∫ «–±–∞–±—É—à–∫–µ» –ª–∏—á–Ω–æ —è–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–æ—Ä–∞ –∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∏—Å–ø—Ä–∞–≤–Ω–∏–∫, —á—Ç–æ–±—ã –æ–±—ä—è–≤–∏—Ç—å —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞ —é—Å—Ç–∏—Ü–∏–∏ –ê. –§. –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –æ–± –µ–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏, –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ –æ—Ç –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞ –ª–∏—á–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏—è –∏ –æ–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–∏ —Å–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è –≤—ã–µ–∑–¥—É –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é —Å –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –∫ –µ–µ —É—Å–ª—É–≥–∞–º –ª–∏—Ü–∞ –¥–ª—è –æ–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è –ø–æ–º–æ—â–∏ –≤ –ø—É—Ç–∏, –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ –ø–æ–∂–µ–ª–∞–µ—Ç. –ì–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∞—è –¥—É–º–∞ –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ —è–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—É –∫ —É–µ–∑–∂–∞—é—â–µ–π –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥ «–±–∞–±—É—à–∫–µ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏» –ï. –ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–∑–¥—Ä–∞–≤–∏—Ç—å «—Å –ø–æ–±–µ–¥–æ–π –∏ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º –µ–µ –∏–¥–µ–π», –≤—ã—Ä–∞–∑–∏—Ç—å –µ–π –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –æ—Ç –≤—Å–µ–≥–æ –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –∏ –ø–æ–∂–µ–ª–∞–Ω–∏–µ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏.
–ü—Ä–æ–≤–æ–¥—ã –Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –Ω–µ–±—ã–≤–∞–ª—ã–π –≤ –ú–∏–Ω—É—Å–∏–Ω—Å–∫–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä. –ö–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–∞ –∏ –¥–≤–æ—Ä «–±–∞–±—É—à–∫–∏» –±—ã–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω—ã –ø—Ä–æ–≤–æ–∂–∞—é—â–∏–º–∏. –ù–∞ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥—ã —è–≤–∏–ª–∏—Å—å –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –≤—Å–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –∂–∏—Ç–µ–ª–∏. «–ë–∞–±—É—à–∫–∞» —Ç—Ä–æ–Ω—É–ª–∞—Å—å –≤ –ø—É—Ç—å –ø–æ–¥ –∑–≤—É–∫–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≥–∏–º–Ω–∞, –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤—Å–µ–º–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–∂–∞–≤—à–∏–º–∏. 73-–ª–µ—Ç–Ω—é—é —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫—É —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –ï–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫—É—é –Ý–æ—Å—Å–∏—é, –≤—ã–¥–µ–ª–∏–≤ –µ–π —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –≤–∞–≥–æ–Ω –∏ –æ–±—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ —ç—Ç–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞, «—Å–ø–ª–æ—à–Ω—ã–º —Ç—Ä–∏—É–º—Ñ–æ–º».
–¢—Ä–∏—É–º—Ñ–∞–ª—å–Ω–æ–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ –¥–ª–∏–ª–æ—Å—å –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –º–µ—Å—è—Ü–∞, —Å –≤—ã—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–¥ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—É–±–ª–∏–∫–æ–π —á—É—Ç—å –ª–∏ –Ω–µ –Ω–∞ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏—è—Ö. –Ý–µ–ø–æ—Ä—Ç–µ—Ä—ã –∏ «—Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–µ» —Å –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º–∏ –±–∞–Ω—Ç–∞–º–∏ —Å –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–Ω–∏–µ–º –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ –µ–µ –ø—Ä–∏–µ–∑–¥–∞. –í—Å—é–¥—É –µ–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∏ –ø–æ–¥ –∑–≤—É–∫–∏ –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä–æ–≤ –∏ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–µ–º –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö —á–∞—Å—Ç–µ–π.
–í –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥–µ –Ω–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤—Å–∫–æ–º –≤–æ–∫–∑–∞–ª–µ –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö —Å—É—Ç–æ–∫ –≤ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏ –ø—Ä–∏–µ–∑–¥–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –¥–µ–∂—É—Ä–∏–ª–∏ —Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç–µ—Ä—ã, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–π –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ «–≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–µ» —Å –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º–∏ –±–∞–Ω—Ç–∞–º–∏. –ü—Ä–∏–µ–∑–¥ «–±–∞–±—É—à–∫–∏» –±—ã–ª —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º –ø—Ä–æ–∏–≥–Ω–æ—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∏ «–∂–µ–ª—Ç—ã–µ», –Ω–∏ —Ä–µ—Å–ø–µ–∫—Ç–∞–±–µ–ª—å–Ω—ã–µ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏—è — –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ –æ—Ç –∏—Ö –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ö–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–∞—è –≥–∞–∑–µ—Ç–∞ «–Ý–µ—á—å» —Å –ø–∞—Ñ–æ—Å–æ–º –ø–∏—Å–∞–ª–∞ –≤ —Ç–µ –¥–Ω–∏: «–°–≤–æ–±–æ–¥–Ω–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è –±–∞–±—É—à–∫—É –∂–¥–µ—Ç, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –µ–π –Ω–∏–∑–∫–æ, –ø–æ–¥–µ–ª–∏—Ç—å—Å—è —Å –Ω–µ–π –µ–µ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å—é, —Å—á–∞—Å—Ç—å–µ–º –¥–∞–≤–Ω–æ –∂–µ–ª–∞–Ω–Ω–æ–π —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã».
–ù–∞ –≤–æ–∫–∑–∞–ª–µ –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥–µ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—É –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω—É –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫—É—é –±—É—Ä–Ω–æ —á–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä—ã –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –≥–ª–∞—Å–Ω—ã–µ –ì–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π –¥—É–º—ã, –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ç—ã –°–æ–≤–µ—Ç–∞ —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–æ–≤, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –ö–æ–º–∏—Ç–µ—Ç–∞ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–π. –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–∏–π –ø–µ–ª –µ–π –¥–∏—Ñ–∏—Ä–∞–º–±—ã, –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—è –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫—É—é «–±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–º –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –ø–æ –¥—É—Ö—É»; –æ–Ω–∞ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª–∞ –µ–º—É —Ç–µ–º –∂–µ, –ø—Ä–æ–≤–æ–∑–≥–ª–∞—Å–∏–≤ –µ–≥–æ «–¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω–µ–π—à–∏–º –∏–∑ –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω–µ–π—à–∏—Ö –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω –∑–µ–º–ª–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π», «–≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–∏–Ω–æ–º, —Å–ø–∞—Å—à–∏–º –Ý–æ—Å—Å–∏—é». –û–Ω–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≤ —Å–∞–º–æ–º —Ä–∞–¥—É–∂–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –¥—É—Ö–∞: «–í–æ—Ç —Ç–∞–∫ –∏ –≤—ã—à–ª–æ, –∫–∞–∫ —è –¥—É–º–∞–ª–∞. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–∞–¥–æ –Ω–∞–º –Ý–æ—Å—Å–∏—é –Ω–∞–¥–æ –∑–∞–Ω–æ–≤–æ –æ—Ç—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å».
–ü–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—é –≥–∞–∑–µ—Ç –∏ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–æ–≤ –∫ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏–∑ —Å—Å—ã–ª–∫–∏, –ø–æ —á–∏—Å–ª—É –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—ã—Ö –µ–π —Å—Ç–∞—Ç–µ–π, –∑–∞–º–µ—Ç–æ–∫ –∏ —Ä–µ—á–µ–π —ç—Ç–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º —Å–æ–≤–ø–∞–¥–∞–µ—Ç —Å —Ç–∞–∫–∏–º –∂–µ –≤—Å–µ–æ–±—â–∏–º –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ–º –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–π –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏ –∫ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—é –≤ 1994 –≥. –∏–∑ –°–®–ê –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é –ê. –ò. –°–æ–ª–∂–µ–Ω–∏—Ü—ã–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∏–∑ –í–ª–∞–¥–∏–≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª –Ω–∞ –ø–æ–µ–∑–¥–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –≤—Å—é —Å—Ç—Ä–∞–Ω—É, —Å –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞–º–∏ –∏ —Ä–µ—á–∞–º–∏, –∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ, –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∏–≤ –≤ –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –¥—É–º–µ.
–•–æ—Ç—è –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–µ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –Ω–µ –¥–æ–≤–µ–ª–æ—Å—å –Ω–∏ —Å—ã–≥—Ä–∞—Ç—å –≤ –§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ —Ä–µ—à–∞—é—â–µ–π —Ä–æ–ª–∏, –Ω–∏ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å —Ö–æ–¥ –µ–µ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –æ–Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–∏—Å—Ç–∏–Ω–µ –∫—É–ª—å—Ç–æ–≤–æ–π —Ñ–∏–≥—É—Ä–æ–π —ç—Ç–æ–π —Å–º—É—Ç–Ω–æ–π —ç–ø–æ—Ö–∏, –µ–µ —Å–∏–º–≤–æ–ª–æ–º, «—ç–º–±–ª–µ–º–æ–π —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã –∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–∞», –∫–∞–∫ –ø–∏—Å–∞–ª 1-–π –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ–≤–µ—Ç–∞ —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–æ–≤ –ù.–°. –ß—Ö–µ–∏–¥–∑–µ. –ü–æ—Å–ª–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –∏–∑ —Å—Å—ã–ª–∫–∏, –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Å—Ç–∞–ª–∞ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö –∫–æ–ª–æ—Ä–∏—Ç–Ω—ã—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü, —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤–ª–∏—è–≤—à–∏—Ö –ø–æ—Å–ª–µ –§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –Ω–∞ —Ö–æ–¥ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π 1917 –≥–æ–¥–∞…

–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –∏ –ê. –§. –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–∏–π –≤ –∞–ø—Ä–µ–ª–µ 1917 –≥.
–≠–Ω–µ—Ä–≥–∏—á–Ω–æ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–≤—à–µ–π –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –±—ã–≤—à–µ–π –ø–æ–ª–∏—Ç–∫–∞—Ç–æ—Ä–∂–∞–Ω–∫–µ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–µ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –±—ã–ª–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–Ω—ã –ø–æ–∏—Å—Ç–∏–Ω–µ —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–µ –ø–æ—á–µ—Å—Ç–∏ – –ø–æ –ª–∏—á–Ω–æ–º—É —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—é –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∞ –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞—Ö –ó–∏–º–Ω–µ–≥–æ –î–≤–æ—Ä—Ü–∞. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –≤–æ–∑–º—É—Ç–∏–ª–æ –º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏—Å—Ç–æ–≤. –¢–∞–∫, –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –ª–∏–¥–µ—Ä–æ–≤ –º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ «–°–æ—é–∑ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞» –í.–ú. –ü—É—Ä–∏—à–∫–µ–≤–∏—á, —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫ —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–∞ –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏—è –Ý–∞—Å–ø—É—Ç–∏–Ω–∞, –æ—Ç–æ–∑–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º–∏ —è–∑–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω—ã–º–∏ —Å—Ç—Ä–æ—á–∫–∞–º–∏:
|
–ò–∑ –∫–∞—Ç–æ—Ä–≥–∏ —Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–æ–π –ï–¥–µ—Ç «–±–∞–±–∫–∞» –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥ –ß—Ç–æ–±—ã –≤–∏–¥–µ—Ç—å –≤—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –î–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥. –ï–¥–µ—Ç... –∫—Ä–∏–∫–∏ –ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω—å—è. –°–∞–º –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Ç—É—Ç –∫–∞–∫ —Ç—É—Ç. –ò –≤ –¥–≤–æ—Ä–µ—Ü –¥–ª—è –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–Ω—å—è –î—É—Ä—É —Å—Ç–∞—Ä—É—é –≤–µ–¥—É—Ç... |
–ë–∞–±–∫–∞» –≤ –Ω–æ–≤–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω—å–µ: –í–º–µ—Å—Ç–æ –∫–∞—Ç–æ—Ä–≥–∏ –ø–æ—á–µ—Ç; –ù–∞ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–º –∏–∂–¥–∏–≤–µ–Ω—å–µ –í–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–µ –æ–Ω–∞ –∂–∏–≤–µ—Ç. –ß–µ–º-—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ –¥–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è... –î–ª—è –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –æ–Ω–∞... –ò —Å –µ–µ –±–ª–∞–≥–æ—Å–ª–æ–≤–µ–Ω—å—è –Ý–∞–∑—Ä—É—à–∞–µ—Ç—Å—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞... |
–ö–∞–∫ –æ—Ç–º–µ—á–∞–µ—Ç –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –±–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–æ–≤ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫ –ò. –ê—Ä—Ö–∏–ø–æ–≤, «–ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–æ-–ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Ñ–µ–Ω–æ–º–µ–Ω –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π, —Å—Ç–∞–≤—à–µ–π –±–µ—Å–ø—Ä–µ—Ü–µ–¥–µ–Ω—Ç–Ω–æ–π –ø–æ —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ñ–∏–≥—É—Ä–æ–π, –Ω–µ —Å–ª—É—á–∞–µ–Ω –≤ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö "–º–µ–¥–æ–≤–æ–≥–æ –º–µ—Å—è—Ü–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏". –°—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –∫—Ä—É—à–µ–Ω–∏–µ —Å–∞–º–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∏—è –∏ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ "–°–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏", –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ –≤ –æ–¥–Ω–æ—á–∞—Å—å–µ "–≤–µ—Ä–Ω–æ–ø–æ–¥–¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö" –≤ "—Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω", —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—å–Ω–∞—è —Å–º–µ–Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤—è—â–µ–π —ç–ª–∏—Ç—ã –∏ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ–≤–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ–π –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π, —Å–æ—Ü–∏–æ–∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–π —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≤—Å–µ –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å –¥–ª—è –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è —Å–∏–ª—å–Ω–µ–π—à–∏–º –ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω–∏–µ–º. –ù—É–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–æ–≤–∞—è —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏–∫–∞ –∏ –º–∏—Ñ–æ–ª–æ–≥–∏—è, –Ω–æ–≤—ã–µ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ä–∏—Ç—É–∞–ª—ã, —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∞—è "–æ–±—â–µ–Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–∞—è –∏–¥–µ–æ–ª–æ–≥–∏—è".
–¢–µ–ø–µ—Ä—å —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂–∏, –æ–ª–∏—Ü–µ—Ç–≤–æ—Ä—è–≤—à–∏–µ —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–æ–≤–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ò –≤ —ç—Ç–æ–º –∫–æ–Ω—Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –º–∏—Ñ –æ "–±–∞–±—É—à–∫–µ" —É–¥–∞—á–Ω–æ –≤–ø–∏—Å–∞–ª—Å—è –≤ –º–∞—Å—Å–æ–≤—É—é –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—É, –±–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —ç–ª–∏—Ç–∞ –≤–æ–ª—å–Ω–æ –∏–ª–∏ –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ü–µ–ª–µ–Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ –∫—É–ª—å—Ç –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö "—Å–≤—è—Ç—ã—Ö –≥–µ—Ä–æ–µ–≤ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏"». –£–∂–µ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –∏—é–Ω—è –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç —Ñ–∏–ª—å–º «–ë–∞–±—É—à–∫–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, –∏–ª–∏ –ú—É—á–µ–Ω–∏—Ü–∞ –∑–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥—É» (–ø—Ä–æ–¥—é—Å–µ—Ä –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –î—Ä–∞–Ω–∫–æ–≤, —Ä–µ–∂–∏—Å—Å–µ—Ä –ë–æ—Ä–∏—Å –°–≤–µ—Ç–ª–æ–≤).
–ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è —Å–æ–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫–æ–º –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ, –µ–≥–æ –Ω–µ–æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º –∫–æ–Ω—Å—É–ª—å—Ç–∞–Ω—Ç–æ–º. –û–Ω –Ω–µ –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç –µ–µ –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ, —Ö–æ—Ç—è –æ–Ω–∞ –ø–æ —Å–≤–æ–µ–π –Ω–∞—Ç—É—Ä–µ –∏–Ω–¥–∏–≤–∏–¥—É–∞–ª–∏—Å—Ç–∫–∞, –µ–π –Ω—Ä–∞–≤–∏—Ç—Å—è –µ–∑–¥–∏—Ç—å –ø–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –≤ –º–∏—Ç–∏–Ω–≥–∞—Ö –∏ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è—Ö, –≤–µ—Å—Ç–∏ —Ä–∞–∑—ä—è—Å–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –ñ–∏–∑–Ω—å –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥–µ, –≤ –∞–Ω—Ñ–∏–ª–∞–¥–∞—Ö —Ñ—Ä–µ–π–ª–∏–Ω –ó–∏–º–Ω–µ–≥–æ –î–≤–æ—Ä—Ü–∞, –ø—Ä–µ—Ç–∏—Ç –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–µ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π. –ù–æ –æ–Ω–∞ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç, –∫–∞–∫ –≤–∞–∂–Ω–æ –µ–µ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –¥–ª—è –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Å–ª–µ –∏—é–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∏–∑–∏—Å–∞.
–ù–∞—Ö–æ–¥—è—Å—å –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ —Å–ª–∞–≤—ã, –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –≤–∫–ª—é—á–∏–ª–∞—Å—å –≤ –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥–∏—Å—Ç—Å–∫—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –Ý–∞–∑—ä–µ–∑–∂–∞—è –ø–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, –æ–Ω–∞ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∞ –≤ –∑–∞—â–∏—Ç—É –Ω–æ–≤–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–æ—è, –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ —ç—Å–µ—Ä–æ–≤—Å–∫—É—é –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—É. –ë—É–¥—É—á–∏ —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω–æ–π –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∫–æ–π, —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∞ –¥–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –≤–æ–π–Ω—ã —Å –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–µ–π –¥–æ –ø–æ–±–µ–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞, –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–∞ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∂–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö «–±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω–æ–≤ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏» –∏ —Ñ–µ–º–∏–Ω–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ, –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∞ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—â–∞–Ω–∏—è –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ. –í—ã—Å—Ç—É–ø–∞—è –Ω–∞ –º–∏—Ç–∏–Ω–≥–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞–º–∏ –∏ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–∞–º–∏ –≤ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥–µ, –æ–Ω–∞ –∑–∞—è–≤–∏–ª–∞: «–í–µ–ª–∏–∫–∏–µ –≤–æ–∏–Ω—ã –∏ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–µ, –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç–µ –Ω–∞—Å —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –æ—Ç –≤—Ä–∞–≥–∞. –Ø, —Å—Ç–∞—Ä—É—Ö–∞, –∏–¥—Ç–∏ –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω—É –Ω–µ –º–æ–≥—É, —Ö–æ—Ç—è –µ—Å–ª–∏ –±—ã –≤—ã —ç—Ç–æ–≥–æ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –æ—Ç –º–µ–Ω—è, –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—é—Å—å...».
–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –ø–∏—à–µ—Ç –∏ –∏–∑–¥–∞–µ—Ç —Å–µ—Ä–∏—é –±—Ä–æ—à—é—Ä, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –¥–æ—Å—Ç—É–ø–Ω–æ –∏–∑–ª–∞–≥–∞–µ—Ç –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è —ç—Å–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—ã –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º –æ—Ç–≤–µ—á–∞–µ—Ç –Ω–∞ –∑–ª–æ–±–æ–¥–Ω–µ–≤–Ω—ã–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã, –≤–æ–ª–Ω–æ–≤–∞–≤—à–∏–µ –ª—é–¥–µ–π, –í –ú–æ—Å–∫–≤–µ –µ—é –±—ã–ª–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–µ–µ—Å—è –Ω–∞ –ö—É–∑–Ω–µ—Ü–∫–æ–º –º–æ—Å—Ç—É –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ —Ñ–æ–Ω–¥–∞ –∏–º–µ–Ω–∏ «–±–∞–±—É—à–∫–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –ï.–ö, –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π» –¥–ª—è —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è –∫–Ω–∏–≥ —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞, —Ç–∞–∫ –±–æ–ª–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ –µ–µ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–∞ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ –∏ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–∏—è.
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∏—é–Ω—è 1917 –≥–æ–¥–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è, –ø—Ä–∏ –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç–∞, –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –∏–∑ –°–®–ê –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é –ø–æ —Ç–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º —Å—É–º–º—É – –±–æ–ª–µ–µ –¥–≤—É—Ö –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–æ–≤ —Ä—É–±–ª–µ–π, –ø—Ä–µ–¥–Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö, –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å, –¥–ª—è –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏—è –≤–æ–π–Ω—ã. –ö–∞–∫ –≤–∏–¥–∏–º, –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å, –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Ü—ã –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –≤–µ—Ä–Ω—ã–º–∏ —Å–∞–º–∏–º —Å–µ–±–µ – –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á–∏—Ç–∞—è –∫—É–ø–∏—Ç—å —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –≥–æ—Ç–æ–≤ –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã —Å–∞–º–∏–º –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è, –ø–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ, –ø–æ–ª—É—á–∞—è –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –≤—ã–≥–æ–¥—É –æ—Ç —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤–ª–∏ –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏—è –≤–æ–π–Ω—ã –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–º –∫–æ–Ω—Ç–∏–Ω–µ–Ω—Ç–µ.
–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª–∞ —Å–µ–±–µ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –ø–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º—É —É—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–Ω–∏—é. –û –µ–µ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –∫ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –¥–µ–Ω—å–≥–∞–º —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –≤ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è—Ö –µ–µ —Å—ã–Ω –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π. –ü—Ä–∏–±–ª–∏–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –∏–∑ —Å—Å—ã–ª–∫–∏ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–µ—Ç—Å—è —Å —Å—ã–Ω–æ–º –≤ –ö–∏–µ–≤–µ. –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ –º–∞—Ç—å –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ –∫ –µ–≥–æ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥—É –Ω–∞ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω–æ–π –º–∞—à–∏–Ω–µ, –≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–≤—à–µ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç—Ä–∏—Ü–µ –ú–∞—Ä–∏–∏ –§–µ–¥–æ—Ä–æ–≤–Ω–µ, –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—á–µ–Ω–∞ –Ω–∞ —Ä—É–∫–∏ —Ç–æ–ª–ø–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∏ –≤–Ω–µ—Å–ª–∞ –µ–µ –≤ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—É. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –æ–±–æ—à–ª–∞ –≤—Å–µ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–≤, —á—Ç–æ —Å—ã–Ω —Å –Ω–µ–≤–µ—Å—Ç–∫–æ–π –∂–∏–≤—É—Ç «—Å–ª–∏—à–∫–æ–º –ø–æ-–±—É—Ä–∂—É–π—Å–∫–∏».

–ê–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å –ï.–ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π. –§–æ—Ç–æ 1917 –≥.
–ü–æ –µ–µ –∂–µ–ª–∞–Ω–∏—é –Ω–∞ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—É –∫ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—é –±—ã–ª –≤—ã–∑–≤–∞–Ω «–ø—Ä–∏–¥–≤–æ—Ä–Ω—ã–π —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ» –û—Ü—É–ø, –¥–æ 1917 –≥–æ–¥–∞ —Å–Ω–∏–º–∞–≤—à–∏–π —Ü–∞—Ä–µ–π, –∞ –ø–æ—Å–ª–µ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è –ø–µ—Ä–µ–∫–≤–∞–ª–∏—Ñ–∏—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞–≤—à–∏–π—Å—è –Ω–∞ –≥–µ—Ä–æ–µ–≤ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏. –û—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Å—å –Ω–∞–µ–¥–∏–Ω–µ —Å –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é, —Å—ã–Ω –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–µ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–µ —Å –ø—Ä–æ—Å—å–±–æ–π –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—É—é –ø–æ–º–æ—â—å –±—Ä–∞—Ç—É –í–∞—Å–∏–ª–∏—é –∏ –∑–æ–ª–æ–≤–∫–µ - –µ–≥–æ –ø—Ä–∏–µ–º–Ω—ã–º —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –±—É–¥—É—á–∏ —É–∂–µ –ø–æ–∂–∏–ª—ã–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏, –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –∂–∏—Ç—å –Ω–∞ –º–∏–∑–µ—Ä–Ω—É—é –ø–µ–Ω—Å–∏—é. –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –Ω–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ —ç—Ç–∏ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∏ –µ–π –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –≤—Å–µ–≥–æ —Ç—é—Ä–µ–º–Ω–æ–≥–æ —Å—Ä–æ–∫–∞, –Ω–æ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –≤—ã–¥–µ–ª–∏—Ç—å —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –¥–ª—è –ø–æ–º–æ—â–∏ —Ä–æ–¥–Ω—ã–º –∏–∑ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ–Ω–µ–≥, –∞ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —É –Ω–µ–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. «–Ø –Ω–µ –º–æ–≥—É, —è –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥—É... –û—Ç–∫—É–¥–∞ –∂–µ? –¢—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, —É –º–µ–Ω—è –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ—Ç! –ù–µ–ª—å–∑—è, –Ω–µ–ª—å–∑—è... —ç—Ç–æ –Ω–µ –º–æ–∏ –¥–µ–Ω—å–≥–∏... –≠—Ç–æ –≤—Å–µ –Ω–∞ —É–≥–ª—É–±–ª–µ–Ω–∏–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏...». –ö–∞–∫ –≤–∏–¥–∏–º, –≤ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö —Å–æ—Ä–∞—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–∏—Ö –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–æ–≤ –∏ –ø–∞—Ä—Ç–∏–π–Ω—ã—Ö —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –æ–Ω–∞ –≤–æ –≤—Å–µ–º –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å —á–µ—Å—Ç–Ω–æ–π –∏ –≤–µ—Ä–Ω–æ–π —Å–≤–æ–∏–º –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞–º –∏ –∏–¥–µ–∞–ª–∞–º.
–û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ «–±–∞–±—É—à–∫–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏» –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∞. –û—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —Å «–º–∞—Ä–∫—Å—è—Ç–∞–º–∏», –∫–∞–∫ –æ–Ω–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –Ω–æ–≤—É—é –ø–æ—Ä–æ—Å–ª—å —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤, —É –Ω–µ–µ –Ω–µ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å –µ—â–µ –¥–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, –∞ –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ 1917 –≥. –æ—Å—Ç—Ä–æ—Ç–∞ –¥–∏—Å–∫—É—Å—Å–∏–π –∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏–π —ç—Å–µ—Ä–æ–≤ —Å –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∏ —Ç–∞–∫–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞—Ç—å –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å—É—Ä–æ–≤–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è —Å –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏: «–ì—Ä–µ—à–Ω—ã–º –¥–µ–ª–æ–º, –∏ —è —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∞ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Ä–µ—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –º–µ—Ä, ...—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞: «–í–æ–∑—å–º–∏ –õ–µ–Ω–∏–Ω–∞»! –ê –æ–Ω –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª. –í—Å–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –ø–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—É. –Ý–∞–∑–≤–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞? –ò —Ä–∞–∑–≤–µ –º–æ–∂–Ω–æ —Ç–∞–∫ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –ª—é–¥—å–º–∏? ...–ü–æ—Å–∞–¥–∏—Ç—å –±—ã –∏—Ö –Ω–∞ –±–∞—Ä–∂–∏ —Å –ø—Ä–æ–±–∫–∞–º–∏, –≤—ã–≤–µ–∑—Ç–∏ –≤ –º–æ—Ä–µ –∏ –ø—Ä–æ–±–∫–∏ –∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å. –ò–Ω–∞—á–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞–µ—à—å. –≠—Ç–æ –∫–∞–∫ –∑–≤–µ—Ä–∏ –¥–∏–∫–∏–µ, –∫–∞–∫ –∑–º–µ–∏ – –∏—Ö –º–æ–∂–Ω–æ –∏ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∏—Ç—å. –°—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–µ —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–æ, –Ω–æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ–µ –∏ –Ω–µ–∏–∑–±–µ–∂–Ω–æ–µ». –ö–∞–∫ —à—É—Ç–∏–ª–∏ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏, «–±–∞–±—É—à–∫–∞ –Ω–µ–≤–∑–ª—é–±–∏–ª–∞ —Å–≤–æ—é –≤–Ω—É—á–∫—É».
–£–∂–µ –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ 1917-–≥. —Ä–æ–¥–æ–≤–æ–µ –∏–º–µ–Ω–∏–µ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –≤ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑–≥—Ä–æ–º–ª–µ–Ω–æ «–æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–º», –∑–∞ —Å—á–∞—Å—Ç—å–µ –∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –æ–Ω–∞ —Ç–∞–∫ –∏—Å—Ç–æ–≤–æ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∞ –∏ –±–æ—Ä–æ–ª–∞—Å—å –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å, –∞ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1918 –≥–æ–¥–∞ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—ã –∏—Å–∫–æ–ª–æ–ª–∏ –∏ –ø–æ—Ä—Ç—Ä–µ—Ç «–±–∞–±—É—à–∫–∏» —à—Ç—ã–∫–∞–º–∏. –í –∏—Ç–æ–≥–µ, —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∫–∞ —Å –ø–æ–ª—É–≤–µ–∫–æ–≤—ã–º —Å—Ç–∞–∂–µ–º –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∞ –∑–∞—Ä–æ–∂–¥–∞–≤—à–µ–µ—Å—è –±–µ–ª–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ, –∏ –¥–∞–∂–µ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞ «–±–µ–ª–æ—á–µ—Ö–∞–º» –≤–æ–∑–∑–≤–∞–Ω–∏–µ «–ó–∞–≤–µ—â–∞–Ω–∏–µ –±—Ä–∞—Ç—å—è–º —á–µ—Ö–æ—Å–ª–æ–≤–∞–∫–∞–º –∏—Ö –ë–∞–±–∫–∏ –ö–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—ã –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π», –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –∏—Ö –Ω–µ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞—Ç—å –±–æ—Ä—å–±—ã —Å –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏.
–û–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–≤—à–∏—Å—å –≤ «—Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–µ», –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞ –¥–µ–ª–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ —Ç–∞–∫–∏–º, –∫–∞–∫–∏–º –æ–Ω –≥—Ä–µ–∑–∏–ª—Å—è –µ–π –≤ —É—Ç–æ–ø–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ñ–∞–Ω—Ç–∞–∑–∏—è—Ö, –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ 1918 –≥–æ–¥–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –ø–æ–∫–∏–Ω—É–ª–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏—é, –ø–µ—Ä–µ–±—Ä–∞–≤—à–∏—Å—å —á–µ—Ä–µ–∑ –í–ª–∞–¥–∏–≤–æ—Å—Ç–æ–∫ –∏ –Ø–ø–æ–Ω–∏—é –≤ –°–®–ê. –í –ê–º–µ—Ä–∏–∫–µ –Ω–µ—É–≥–æ–º–æ–Ω–Ω–∞—è –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª–∞ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—É—é –¥–ª—è –Ω–µ–µ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å – —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –æ–Ω–∞ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∞ —É–∂–µ –¥–ª—è –±–æ—Ä—å–±—ã —Å –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –µ–µ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ —É–±–µ–¥–∏—Ç—å –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Ü–µ–≤ –¥–≤–∏–Ω—É—Ç—å –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ 50 —Ç—ã—Å—è—á —Å–æ–ª–¥–∞—Ç, –Ω–µ —É–≤–µ–Ω—á–∞–ª–∏—Å—å —É—Å–ø–µ—Ö–æ–º.
–ü–µ—Ä–µ–±—Ä–∞–≤—à–∏—Å—å –≤ 1920-–µ –≥–æ–¥—ã –≤–æ –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏—é, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –ß–µ—Ö–æ—Å–ª–æ–≤–∞–∫–∏—é, –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –Ω–µ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Å–æ–∑–¥–∞–≤ –≤ –£–∂–≥–æ—Ä–æ–¥–µ «–ö–∞—Ä–ø–∞—Ç–æ-—Ä—É—Å—Å–∫—É—é —Ç—Ä—É–¥–æ–≤—É—é –ø–∞—Ä—Ç–∏—é».
–£–º–µ—Ä–ª–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ 12 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1934 –≥–æ–¥–∞ –≤ 90-–ª–µ—Ç–Ω–µ–º –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ –ø–æ–¥ –ü—Ä–∞–≥–æ–π –≤ –º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–µ –•–≤–∞–ª—ã-–ü–æ—á–µ—Ä–Ω–∏—Ü–µ. –ó–∞ –≤—Ä–µ–º—è –¥–æ–ª–≥–æ–π –µ–µ –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å–º–µ–Ω–∏–ª–æ—Å—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —ç–ø–æ—Ö, –∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–º –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º, –∞ –≤–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–º –∏ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–º —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–º –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –≤–∞–∂–Ω–µ–π—à–∏—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.
–ö–∞–∫ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ –æ—Ç–º–µ—á–∞–ª –≤ –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–º –µ–π –Ω–µ–∫—Ä–æ–ª–æ–≥–µ –ê.–§. –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–∏–π – «–±–µ–∑ –Ω–µ–µ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å —Å–∞–º–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏, –¥—É—Ö–æ–≤–Ω–æ —É—â–µ—Ä–±–Ω–æ–π –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –±—ã —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è».
–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞
- –ò–≤–∞–Ω–∏—à–∫–∏–Ω–∞ –Æ.–í. –ï.–ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è: –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –≤–∑–≥–ª—è–¥—ã –∏ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å. –î–∏—Å—Å–µ—Ä—Ç–∞—Ü–∏—è –Ω–∞ —Å–æ–∏—Å–∫–∞–Ω–∏–µ —É—á–µ–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –∫. –∏. –Ω. – –ú–æ—Å–∫–≤–∞, 2006
- –ê—Ä—Ö–∏–ø–æ–≤ –ò. –ï. –ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è: «–±–∞–±—É—à–∫–∞» —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Å–º—É—Ç—ã. // –ó–≤–µ–∑–¥–∞ ‚Ññ 10, 2012 –≥.
- –õ–∞–∑–∞—Ä–µ–≤—Å–∫–∏–π –ê.–ú. –û–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ —Å—Ç–∞—Ä–æ–π –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏. –¢. I. – –ö–∏–µ–≤, 1888.
- –ü—Ä–æ—Ç—á–µ–Ω–∫–æ –ó. –ï. –ó–µ–º–ª—è –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∞—è – —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∫—Ä–∞–π. – –ë—Ä—è–Ω—Å–∫, 2003
- –ò–≤–∞–Ω–æ–≤ –ê. –û–¥–µ—Ä–∂–∏–º–∞—è –±–∞–±—É—à–∫–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏. http://ruskline.ru/history/2016/03/22/oderzhimaya_babushka_russkoj_revolyucii/
- –°–≤–æ–¥ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –∏ –º–æ–Ω—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å. – –ú.: –ù–∞—É–∫–∞, 1997
- –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª—ä –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∞–≥–æ –£–µ–∑–¥–Ω–∞–≥–æ –û—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–∞–≥–æ –ó–µ–º—Å–∫–∞–≥–æ –°–æ–±—Ä–∞–Ω—ñ—è XXXV —Å–µ—Å—Å—ñ–∏. – –ú–≥–ª–∏–Ω—ä, —Ç–∏–ø–æ–≥—Ä–∞—Ñi—è –í –ì. –ï–≤—Ç—É—à–µ–≤—Å–∫–∞–≥–æ,1900
- –ö–∞–ª–µ–Ω–¥–∞—Ä–∏ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –∑–∞ 1878-1916 –≥–≥. –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤: —Ç–∏–ø–æ–≥—Ä–∞—Ñi—è –ì—É–±–µ—Ä–Ω—Å–∫–∞–≥–æ –ü—Ä–∞–≤–ª–µ–Ωi—è, 1879-1916
- –ü–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–∏–π –ò. –§. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –æ—á–µ—Ä–∫ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ü–æ–ª—Ç–∞–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞ (1840-1890). – –ü–æ–ª—Ç–∞–≤–∞, 1890.
- –Ý–æ–º–∞—à–∫–µ–≤–∏—á –ê. –î. –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –∫ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ü–æ–ª—Ç–∞–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞. – –ü–æ–ª—Ç–∞–≤–∞, 1905-1916.
- –ë–∞—Ç—É—Ä–∫–æ –§.–§. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ-—ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –æ—á–µ—Ä–∫ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è. http://www.mglin-krai.ru/20-interesnoe/istoriko-ekonomicheskij-ocherk-mglinskogo-kraya.
- –ê–Ω—Ç–∏–ø–æ–≤–∞ –Ý. –ù. –ò–∑ –ø–æ—Ä—Ç—Ä–µ—Ç–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏—è –ë. –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∞: –æ–±—Ä–∞–∑ –ï. –ö. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π. //–ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ü—Å–∫–æ–≤ ‚Ññ 25, 2006
- –ë–∞–±—É—à–∫–∞ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–Ω–∞ –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –æ —Å–∞–º–æ–π —Å–µ–±–µ //–ñ—É—Ä–Ω–∞–ª –ù–∏–≤–∞, ‚Ññ 22 –∑–∞ 1917 –≥–æ–¥. http://old.mglin-krai.ru/Imena/BreshkoAvtobiografiya.htm
- –ö–µ—Ä–µ–Ω—Å–∫–∏–π –ê. –§. –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è –∏ –µ–µ –¥—Ä—É–∑—å—è –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.
- –ù–µ–≤–∞—Ö–æ–≤–∏—á –ê. –ù. –ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π //–î–ª—è –í–∞—Å. 1934. ‚Ññ 27. http://www.russianresources.lt/archive/Bresko/Bresko_30.html
- –ö—É–ø—Ä–∏–Ω –ê.–ò. –ù. –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π. –≠—Ç—é–¥ // –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –ù.–ù. –ñ—É—Ç–∫–∞—è —Å–∏–ª–∞. ––Ý–∏–≥–∞: –ú–∏—Ä, 1930
- –¢–µ–ø–ª–∏—Ü—ã–Ω –í. –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ë—Ä–µ—à–∫–æ-–ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π. http://antiq-books.com/dlya_antikvara/breshko-breshkovskij-nikolaj-nikolaevich
- –ò–∑ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π –°. –§. –ö–æ–≤–∞–ª–∏–∫–∞ –æ «—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥». http://old.mglin-krai.ru/Stanovlenie/Kovalk_Hogdenie_Narod.htm
- –í–∏–∫–∏–ø–µ–¥–∏—è
- –í –Ω–∞—á–∞–ª–æ
- –ù–∞–∑–∞–¥
- –í–ø–µ—Ä—ë–¥
- –í –∫–æ–Ω–µ—Ü
–°—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞ 1 –∏–∑ 2